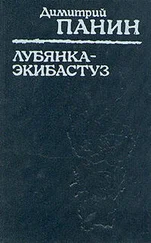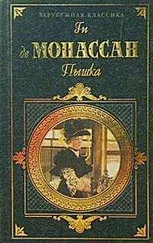Представьте себе мрачную, полутёмную, холодную одиночку, где устроившись поближе к зарешёченной лампочке человек, у которого впереди дантесовский срок, читает другому такому же сидельцу в три часа ночи сказку о несметных сокровищах и подвигах их коллеги по несчастью.
Нашу камеру заполняли искры от бриллиантов и сапфиров так же реально, как и дворницкую, где Воробьянинов встретился с Остапом.
И потом все приносимые ею книги были на уровне. Читали мы попеременно вслух друг другу по двести-триста страниц в сутки. Наши души переполнял восторг. Жизнь героев была нашей жизнью, а их победы, безусловно, были нашими. Мы купались в нашем иллюзорном мире и были счастливы как Сигизмунд Леваневский.
Мы и до этого были читающими людьми насколько хватало на это времени, но никогда восприятие содержания не было таким осязаемым и острым.
Так продолжалось около года. Мы почти не спали, торопливо ели и умывались, оттого что знали, больше такого счастья нам в жизни не привалит, потому что Бог не фраер, и у него всё в равновесии.
Достоевский и Мериме, Конфуций и Тарле, серия «Жизнь замечательных людей» и стихи поэтов Серебряного века заполнили всё наше существование.
Так я узнал и навсегда запомнил, что Марата зарезала мадам Корде, комплексы движут человечеством, а обмануть самого себя невозможно.
Но самое важное в классике – это не «что», а «как».
И, если до этого я, как и всякий невежда, был уверен, что знаю Истину, то теперь осознал до последней клетки, что она непостижима, и суть жизни в том, чтобы её искать. О себе же я стал более скромного мнения. Мягко говоря.
Какое там ранение, какой там срок! Оставьте, ради Бога, «этих глупостев», как говорит моя одесская тётя Рая, когда на меня свалилось такое сокровище, как отборная мировая литература, которую я до сих пор продолжаю читать и перечитывать.
Я романтик Невежества, готовился к серьёзной жизни на свободе и верил в свою звезду. А классическая литература давала возможность мыслить масштабнее и отталкиваться от более высокой ступени.
Сделала ли меня классика лучше? Конечно, нет! Никого она сделать лучше не может. Во всяком случае я таких не встречал. Но классика сделала меня счастливее.
Не я стал лучше, а мне стало лучше.
Я научился желать другого и завидовать другому. То есть она потихоньку меняла мои ориентиры.
Вот такое счастье привалило мне и моему подельнику по побегу Саше Ласкову в самой лучшей из тюрем Советского Союза середины шестидесятых.
Жаль, конечно, что Саша подхватил там тяжёлую форму туберкулёза, а я навсегда застудил, и без того отбитые при побеге, почки.
Но это уже пустяки.
«И пусть меня воры палками побьют, если я не прав».
Лагерная жизнь окутана мифами. Это естественно для любого закрытого сообщества, или народа, о котором мало информации. В кинофильмах заключённые разговаривают на каком-то полузнакомом языке, корчат непонятные глумливые или угрожающие гримасы и ведут себя крайне неестественно.
Освободившихся из заключения окружающие боятся, хотя по большей части основания для боязни окружающих у бывшего зэка много больше.
Во многом это оттого, что выпячивают свои залихватские замашки, как правило, люди в лагере третьестепенные, забитые, которых настоящее лагерное существование и не касалось, а, если и коснулось то самой нехорошей своей частью. И о лагере такая публика знает приблизительно столько же, сколько горький пьяница и бомж о свободе.
Никто в лагере между собой через зубы не разговаривает и словечек непонятных не употребляет. Сила в смысле слов и в личности, их говорящей, а не в звуке.
Кричат сержанты, а генералы вежливо просят.
Этапника, у которого пальцы веером, да словарный запас из подворотни или от Бени Крика, всерьёз никто не воспримет, и в лучшем случае посмеются и остановят, а в худшем походя запустят сапог, что сразу определит его место в тюремной иерархии.
Уважают простоту, порядочность, духовную силу и, конечно же, как и везде, деньги, но только при наличии вышеперечисленных качеств.
Одним из самых распространённых мифов является байка о том, что лиц, попавших за половые преступления, на зоне презирают и всячески унижают, вплоть до мужеложства.
Это не что иное, как ментовская утка для психологического давления на жертву милицейского произвола. Могут менты держать для устрашения камеру со своими шестёрками – вышибалами в тюрьме, но это уже дела ментовские.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу