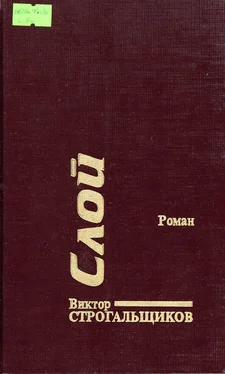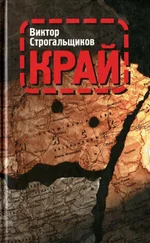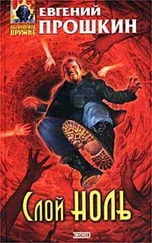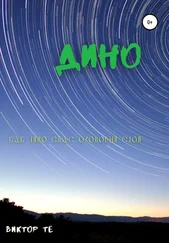В. Строгальщиков - Слой
Здесь есть возможность читать онлайн «В. Строгальщиков - Слой» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Тюмень, Год выпуска: 1997, ISBN: 1997, Издательство: Издательство «СофтДизайн», Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Слой
- Автор:
- Издательство:Издательство «СофтДизайн»
- Жанр:
- Год:1997
- Город:Тюмень
- ISBN:5-88709-073-1
- Рейтинг книги:3.5 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Слой: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Слой»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Слой — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Слой», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Всю эту историю Виктор Александрович вспоминал с тоской и злостью, тем более что в нынешнем году стройка пошла хорошо и даже обогнала график. Причиной тому были вовремя построенные сети и дороги, но в прессе все это преподносилось как победа гласности: вздрючили чиновника, вот он и стал мышей ловить активнее — что было новою неправдой. Но Слесаренко уже давно махнул на все рукой. Правда, на одной из модных ныне презентаций в шикарном отеле «Тюмень» Виктор Александрович не удержался и спросил редактора «Известий», есть ли у него в штате порядочные, объективные журналисты. На что ехидно-грубоватый редактор ответил: есть. И даже назвал точное число: на одного человека больше, чем порядочных политиков в городских верхах. Оба засмеялись и разошлись.
О Лузгине он был наслышан немало, фигура эта в журналистском мире расценивалась неоднозначно, в политических же кругах вызывала интерес и опасения. Лузгинское телешоу «Взрослые дети» пользовалось огромной популярностью, вся область смотрела его; попасть в число героев передачи было и мечтой, и страхом любого мало-мальски заметного политика. Однажды получил приглашение и Виктор Александрович, обещал подумать, но Лузгин ему впоследствии так и не перезвонил: в эфире появился председатель комитета по строительству Терехин. Перед камерами держал себя бойко; Лузгин как ведущий Терехину явно подыгрывал. Передача получила хороший резонанс, отклики зрителей и положительные рецензии в прессе, так что Слесаренко даже испытал нечто вроде ревности и получил урок: если зовут — беги, не ломайся, не хрен думать, Сенека-Бакштановский, второй раз не позовут, кому ты нужен, таких пруд пруди…
…— Впрочем, есть хороший ход, — сказал Чернявский, прикуривая сигарету. Заглянувшая между шторок в салон стюардесса укоризненно покачала головой, Чернявский качнул кистью: все в порядке, не суетись. — У Лузгина есть старый дружок Кротов, директор филиала «Регион-банка». Уж с этим ты, надеюсь, знаком?
— Знаком, — ответил Виктор Александрович и ощутил нарастающее в душе чувство опасности, этакий предательский привкус. «Так, наверное, чувствует себя пешка, когда ею делают первый ход», — подумал Слесаренко.
— Вот и лады, — сказал Чернявский. — Слушай, есть блестящая идея: давай по прилету завалимся ко мне на базу! В воскресенье к обеду вернемся. Ты домой звонил, что вылетаешь?
— Нет, не успел.
— Вот и славненько.
Чернявский засмеялся, взъерошил пальцами крутые кудри с красивой проседью, блеснул в темноте белками глаз.
— Меня в порту машина встречает. Позвоним Оксане, захватим по дороге. Лады? Мы что, не заслужили?
Слесаренко понимал, что его отношения с Оксаной давно уже в городе не секрет, даже для жены, и все-таки его коробили такие прямые касания, что-то вздрагивало в нем, брезгливо съеживалось, когда об этом говорили посторонние.
— Ну, я не знаю… — начал было Виктор Александрович, но Чернявский ткнул его кулаком в колено:
— Кончай, Витя. Вижу ведь: хочешь!.. Старые мы с тобой кони, дружище, а? — и снова ткнул кулаком, полез в матерчатый карман переднего сиденья за недопитой бутылкой, потом вдруг добавил серьезно: — Классная у тебя баба, Виктор Саныч. Поверь мне: я настоящих баб за версту вижу. Повезло тебе.
Слова Чернявского, известного бабника, льстили мужскому самолюбию Слесаренко, и до него не сразу дошел двойной смысл сказанного. Да о ком, собственно, говорил Чернявский? Об Оксане, с которой тот почти не встречался, близко знать ее просто не мог, или о слесаренковской жене, действительно достойной женщине, когда-то красивой и не растратившей еще приметы этой красоты, хорошей матери, хозяйке дома, спокойном и надежном друге, всегдашней опоре семьи в минуты и годы слесаренковских неудач и метаний. Чернявский был вхож в их семью, бывал на праздниках и днях рождения; к Вере, жене Виктора Александровича, относился учтиво-ласково, невинно флиртовал, по поводу и без повода приносил цветы. Вера же Чернявского сторонилась и не раз говорила Слесаренко, что кудрявый «гусар» ей не нравится своей слащавостью и неискренней, по ее мнению, какой-то вяжущей дружбой с мужем. Виктор Александрович «гусара» другом не считал — так, приятель, партнер, легкий собеседник, но излишняя мнительность жены подчас раздражала его, и он как-то сказал ей: «Будь по-твоему — к нам бы вообще никто не ходил».
Стюардесса прошла по салону с просьбой пристегнуть ремни: самолет снижался над Тюменью. Они допили коньяк, Чернявский сунул пустую бутылку в карман переднего сиденья — сами выбросят, туда же затолкал сверток с недоеденными бутербродами. Виктор Александрович завидовал этому хозяйскому хамству Чернявского, для которого все, кому он платил, были лакеями, обслугой, а за билет он платил, значит, утрутся и сделают, мог бы и высморкаться в подголовник. Сам Слесаренко так не умел, стеснялся и сквозь зависть слегка презирал манеры Чернявского, хотя временами пользовался его хамоватостью и пробойностью там, где эти качества помогали делу. И не только делу. Когда Виктор Александрович устал от попреков жены насчет старой, неудобной квартиры-«хрущевки», он именно «гусару» рассказал об этом, и «гусар» помчался к Муравьеву, потом пробился к мэру и все устроил. Они поменяли свою «хрущевку» на просторную квартиру в кирпичной «вставке» на Малыгина, которую строил трест Чернявского. «Гусар» на новоселье был, держал себя скромно, ни разу за вечер не обмолвился о своей заслуге, и когда слесаренковская жена Вера — она была в курсе дела — подняла рюмку за Чернявского и «его добрую помощь», тот замахал руками и натурально смутился, порозовел: похвала была явно приятна, тем более из уст Веры'. «Наверное, он все-таки говорил о жене», — подумал Виктор Александрович, когда они спускались по трапу под вечным аэропортовским ветром.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Слой»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Слой» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Слой» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.