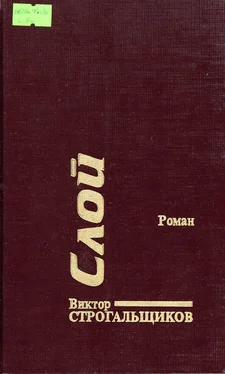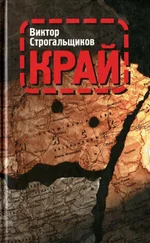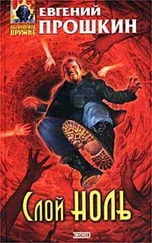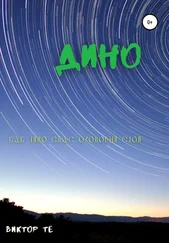Уже за городом, проезжая поселок Боровский, Слесаренко спросил Чернявского:
— А где, собственно…
— Уже на месте. Нормально отвез?
— Нормально, — ответил водитель Миша.
— Лида на базе с обеда, — сказал Чернявский — дана команда замариновать шашлык. Приедем — приму рапорт.
«Лида, Лида…» — пытался припомнить Виктор Александрович и обнаружил, что это имя ничего ему не говорит. Чернявский был в разводе уже года три, постоянством привязанностей не отличался, но был осторожен, на семейных торжествах друзей и официальных приемах появлялся один, не в пример тому же Виктору Александровичу, уже изрядно «засветившемуся» с Оксаной.
Иногда Слесаренко сам себе удивлялся. Это он, взрослый, умный мужик, осторожный политик, любивший семью и дороживший семейным покоем, уважавший жену безмерно, это он, Слесаренко, всюду таскает Оксану с собой, раздражая официально-чопорный местный бомонд, плодя сплетни, пересуды и тихий нарастающий гнев начальства, — о последнем ему уже не раз намекали. Вне общественных глаз, за дверями и шторами — все, что угодно, но «публичное блядство», как однажды выразился мэр по другому адресу, не поощрялось. Виктор Александрович это понимал, но с каким-то наркотическим упрямством, на удивление и во зло самому себе все глубже засовывал голову в петлю так называемого общественного мнения. Жалко было только семью и жену, однако и эта жалость мало что значила и весила на вечерних и ночных весах. Утром, приехав на службу и пробормотав жене по телефону обычное мужское враньё, Слесаренко презирал себя, давал себе зароки, но так и не сдержал их ни разу. Подсознательно он чувствовал всю банальность и вековую повторяемость ситуации — вспоминал Куприна и Бунина, — понимал: так будет и с ним. «Ну и ладно, пусть будет», — говорил себе Виктор Александрович.
Ворота «гусаровской» базы были открыты. «Вольво» пролетела их по-хозяйски уверенно, властно. Белые с черным округлые объемы еще не тронутого солнцем лесного снега волнами расходились от дороги. Они проехали в глубь территории, к дальнему забору у реки, где светилась огнями большая двухэтажная изба с фонарем над резным деревянным крыльцом.
На развороте шофер просигналил, и, когда они вылезали из машины, на крыльце их уже ждали двое: местный смотритель — он же банщик, он же повар и охотницки-рыбацкий бригадир — и высокая женщина в валенках и норковом берете — очевидно, та самая Лида.
— Равняйсь, смирно! — гаркнул сторож. Чернявский вытянулся во фрунт, женщина в валенках в три шага спустилась с крыльца и ткнула ладонью берет:
— Все готово, вашсиятельство!
Чернявский скомандовал: «Вольно!», горделиво оглянулся на Виктора Александровича — смотри и учись, обнял женщину за плечи и представил ее Слесаренко. Виктор Александрович поцеловал теплый изгиб запястья, щелкнув каблуками, как бы принимая условия барского спектакля, и услышал за спиной оксанин голос:
— Лидочка, привет.
— Привет, дорогая, — женщина в берете по-сестрински чмокнула Оксану в щеку.
И снова что-то коснулось души Виктора Александровича, и он вдруг пожалел, что приехал сюда, а не домой. Сидел бы сейчас в просторной кухне, ел любимую рисовую кашу: подсевший в гастрите желудок сам диктовал вкусы хозяину, — рассказывал бы про Москву. Пришли бы сын с невесткой, по-детски радовались бы немудреным московским сувенирам, рассказывали про внука Алешку, про ежедневные его новые придумки и приколы. Жена бы сидела напротив, положив на кулачок тонкий подбородок. Потом бы он принял душ, надел чистую пижаму, завалился в постель с детективом и уснул бы раньше жены, спал бы в воскресенье почти до обеда и проснулся голодным от вкусных обеденных запахов с кухни, топота босых детских ног и приглушенного звука телевизора в зале.
«Они знают друг друга». — Слесаренко смотрел, как две женщины, его и чужая, подымались на крыльцо, полуобнявшись, сказал себе со злостью: «Ну, знают, и знают. Мир, как известно, тесен. Перестал бы ты комплексовать». Какая мелочь, а настроение вдрызг испорчено. «Лечиться надо, Витя». А лучше напиться. «Лечиться — напиться, Кушкин — Пушкин».
Сняв пальто в сенях, Виктор Александрович шагнул в знакомый яркий свет обеденного зала с огромным столом, уже накрытым закусками на четверых. Оксана прихорашивалась у зеркала. Лида, все так же в берете и валенках, таскала с кухни новые тарелки со снедью. Коля, смотритель базы, грохал тазами в банном отсеке, шелестел вениками, докладывал Чернявскому о готовности сауны. Трещали в камине дрова. Чтобы хоть чем-нибудь заняться, Слесаренко принялся шурудить в камине кочергой, завалил огневище и заработал выговор от вошедшего в зал Чернявского: «Не умеешь — не берись».
Читать дальше