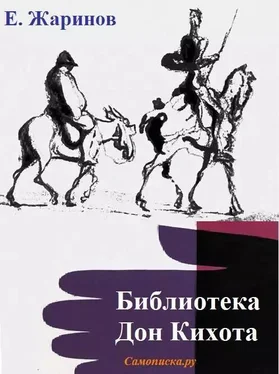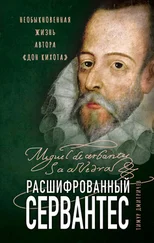В этом глухом лабиринте оставалось лишь перекрикиваться с Вороновым, который хотя и слабо, но все-таки откликался на призывы Грузинчика. Гога пришел на помощь, а подучилось, что сам в ней теперь нуждался.
Так они и аукались, уходя все глубже и глубже в этот странный враждебный лес-лабиринт. И ящики действительно, словно с помощью компьютерной графики, стали все больше и больше напоминать многовековые деревья с могучими стволами, обширной корневой системой, которая вылезала из-под земли, словно норовя все время подставить ножку тем, кто по неосторожности забрел сюда. А над головой раскинулись кроны деревьев. Свет с большим трудом начал проникать в это царство полумрака, лесной сырости и запаха мха и почему-то сухих опилок.
Грузинчику после долгого блуждания по этой тайге показалось даже, что лес этот вырос лишь потому, что книгам, относительно молодым, а не пергаментным фолиантам, вдруг захотелось вместе с этими самыми ящиками вновь вернуться в свое первобытное состояние дикой лесной чащи.
Было время, когда Книга нуждалась лишь в телячьей или свиной коже, то есть в пергаменте. Были и еще более давние времена, и Книга в основном писалась на камнях в форме скрижалей, на траве, папирус и свитки, на глиняных брикетах, отдаленно напоминающих современный кирпич.
В результате получалось, что почти все элементы окружающего мира уже были когда-то материальной оболочкой Книги.
Грузинчик, бредя сейчас по этому глухому лесу и время от времени перекрикиваясь с Вороновым, который, кажется, тоже не сидел на месте и пытался найти выход из лабиринта, начал думать о том, верна ли его догадка или нет. И словно в ответ на его мысли он услышал дружное блеяние. По лесу шло стадо. Но как ни старался Грузинчик, как ни вглядывался в просветы между деревьями, он так и не смог увидеть ни одного животного, из шкуры которого обычно и делали пергамент. Стадо присутствовало в этом виртуальном мире лишь в виде звуковой галлюцинации.
Довольно скоро заблудившийся писатель услышал и сладкозвучное журчание воды. Продолжая окликать Воронова, он поспешил к воде. Профессор признался, что тоже слышит, как журчит вода. Решили, что попытаются встретиться у предполагаемого ручья или реки. Когда Гога подошел ближе, то увидел целые тростниковые заросли. Здесь же рос и папирус, как в Египте. Почва у воды сделалась вязкой, глинистой. Воронова Грузинчик так и не встретил, хотя они должны были двигаться в одном направлении.
Лес начал заметно редеть, и на горизонте обозначились величественные горные хребты.
А Воронов, между тем, так и не материализовался. По-прежнему Грузинчик слышал только его голос.
Получалось, что их каким-то образом погрузили в так называемую материальную составляющую Книги, в то, из чего эта самая Книга могла быть сделана в ту или иную историческую эпоху.
По логике, следующим этапом путешествия должно было стать знакомство с идеальной книжной составляющей. А по опыту своему Гога знал, что ничего хорошего от этого знакомства ждать не приходится. Руку второй раз ему чего-то не очень хотелось рубить. И чтобы хоть как-то развлечься, Гога решил поговорить немного со своим невидимым другом, профессором Вороновым.
— Ну, что я вам говорил, профессор? А вы не верили.
— Что? Что вы говорили? Во что я не верил?
— В то не верили, что вся эта наша авантюра до добра не доведет! Что это, как не бред, не начинающееся сумасшествие?
— Вы правы, Гога, вы абсолютно правы, но разве вам самому не интересно блуждать по этому лесу? Вспомните Данте, вспомните, как начинается его «Божественная комедия»: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу»… Вот это и есть тот самый сумеречный дантовский лес. Мне страшно, Гога, мне очень страшно, но я ничего не могу с собой поделать. Я, как и вы, бреду неизвестно куда. Мы первые оказались на этой запретной территории. Это как открытие параллельного мира.
— Заметьте, профессор, что этот мир создан нашим собственным воображением.
— Скорее, не нашим только, Гога, а читательским. Это аккумуляция всех духовных сил тех, кто читал когда-то Книгу. Ведь вы понимаете, о чем я?
— Отлично. Отлично понимаю, профессор. Книга — название условное. Она вбирает в себя все когда-либо написанное.
— Боюсь, Гога, что даже и ненаписанное, а только существовавшее в чьем-то воображении на уровне замысла. Кто-то из великих сказал, что истинные книги, вообще, чураются печатного станка, дабы не опошлиться что ли, дабы не быть растиражированными, а, следовательно, убитыми. Ведь истинная мысль всегда оригинальна и любая попытка перевести ее на язык масс значит для этой мысли только одно — смерть. Согласны, Гога?
Читать дальше