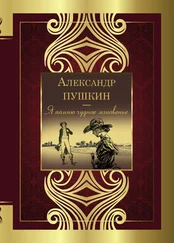Пий XII, размахивает Иосиф газетой «Глас поселенца», это жемчужина в навозе истории, у евреев таких титулуют Ахад ха-Ам, один-из-народа, и чеканят к юбилеям медали. Скажи, подкидываю вопросик, можно ли титуловаться праведником, если хотел еврея убить, а сорвалось, т. е. с опасностью для себя и еврея спас нечаянно его жизнь, что согласуется с диалектикой Яд ва-Шем, в это звание возводящего. Иосиф задумывается, шуршит газетой и приложением к ней, «Ветр Самарии». В Риме, отчитывается он о поездке, кошеруют почище бней-бракских. Раввинат, что твой суслик, съежился в норке, а кошерует напористо, дерзко, будто не те же самые празднуют труса, ожидая, что тапком прихлопнут. Пиццу, спагетти, все в кошер, этим свинину дай, отблагочестят и свинтуса, хихикает Иосиф. Объективная двойственность: слева естественный в их положении страх — гнойные оскорбления, угрозы поквитаться за Дженин и Джебалию, город в граффити «Помоги интифаде!», но справа-то, глянь, что творится, — кошеруют, как звери, храбрей партизанских подпольщиков, бомбисты и динамитчики вянут от зависти. Я после наших ребят лопал все и во всех комбинациях, на плебейскую «маргериту» бросят щепоть кунжута, и на тебе, свято. А на улицах дело пропащее, швах. Негры торгуют дамскими сумочками, в сотнях мест продают, в соседстве с индонезийцами, которых резиновые квакушки прыгают на бечевочках и без оных, нашествие индонезийцев и негров, целующих купюру, когда удастся сбыть барахло. Европейские ценности, хмыкает Иосиф. Европейские ценности, возражаю, это две мировые войны, и, откланявшись, ухожу с фотографией.
«Молли Блум», ирландский паб у моря, закрыт, в этом свой перст, свой резон. «Гиннесс» и развязное, не в традициях края, футбольное пьянство отторгаются белопесчаной косой, не для пришлого гогота наметенной. В дешевом аквариуме харчевни желтая, в клетчатом фартуке марокканка выставила посыпанный луком картофель, кусок брынзы, маслины, бордовый турецкий салат, остротою под стать наперченностям мексиканцев, и апельсиновую воду — пообещав выжать сок свежих цитрусов, дала бурду в тепловатой бутылочке, но картофельный жар, но картофельный жар. Подсел кряжистый, прочный, седой бобрик, лет пятьдесят. Джин задолго до сумерек, еще одну порцию, не закусывая. Из Кейптауна, бывший моряк, бывший таверновладелец, все в бывшем, накрылась страна. Фермеров выводят по списку, по алфавиту, если бы обезьяны умели читать. В туземной прорве сгинут города. Две недели назад полдороги до кейптаунского аэропорта стоял, пропуская коров. Цивилизация была, государство, оазис во мгле африканской. И нате вам, хижины дикарей, зулусы и коса. Так нам и надо, за землю свою обделались постоять. Вы арабов прижмите, личная просьба, браток, это правильно будет, мы свою жизнь проворонили; для бывалого моряка он как-то быстро заплелся, и я потерял интерес. Потормошив каналы кабельного телевидения, трактирщик предоставил слово комментатору, на нервном взводе обсуждавшему палестинский визит сборной мира по литературе с двумя нобелиатами в нападении, высоким желчным португальским патрицием, вошедшим в Мехико в колонне сапатистов, и тугим, как шина, публицистом из Нигерии, довольным вниманием телекамер. Непредвзятые канониры протеста надвигались на пятящегося репортера, и один припечатывал: «Освенцим, Освенцим», а другой вторым номером вторил: «Освенцим, Освенцим». Да что ж вы такое, рыдал журналюга, у нас полстраны противников оккупации, есть ведь разница: Освенцим — истребительный аппарат, лагерь беженцев — непреднамеренный выброс, трагедия, в которой нет умысла и злодейского плана, газовых камер и людоедской программы… Меня не проведешь, все равно, хоть ты тресни, Освенцим, запахивался в тогу португалец, а компаньон делал пальцем, сверкая зубами.
Зимнее солнце прожгло облака, на стол, подсветив восьмигранный стакан, легла золотая трапеция. Трактирщик махал в экран кулаком, обращался к нам за поддержкой, много с двух погорельцев возьмешь, но поделюсь апофатической версией. Причина раскормленной европейской неприязни к евреям, тучнейшей с 1945 года, не в палестинских бедах, действительных и мнимых, раздражающих сопереживательное иностранное око, — мы тоже не каменные и не затем колупаемся на этой жаре, чтобы дети голодных отцов сортировали помойку в километре от изобилия, в результате неоконченной войны, которая вам, в Брюсселе, Копенгагене, Милане, как и нам, очень не нравится и которую, дозвольте уж полную откровенность, не мы начинали. Не забудьте, плохи все войны, плоха, как таковая, война, поэтому, добиваясь прекращения нашей, трижды проклятой войны, добивась нашего в ней поражения, вы должны позаботиться о ликвидации всех отвратительных войн. Не сочту причиной и еврейское высокомерие, исстари заменяющее нам жестокость. И не сочувствие к слабым, некогда рыцарственное, органично-великодушное, сегодня политкорректное, на лицемерной подкладке, не это сочувствие подвигает к фронтальному осуждению евреев — палестинцы же, приплюсую, не угнетаемый колонизаторами остров, но вклиненный авангард двухсотмиллионного арабского конгломерата, в чьих глазах подлое наше существование незаконно. Не, не, не. Ты, черт возьми, разродишься? Секундочку, уже вылезает. Заискивающее многоточие, барабанная дробь…
Читать дальше









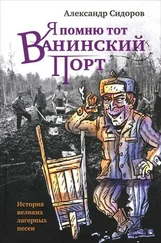
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)