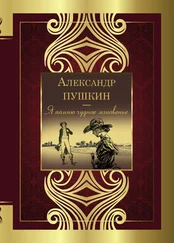— Я подскажу: трещала.
«…о вековой мечте, как если бы от срока давности она заслуживала большего уважения, а я давал им год, полтора, не без далековатой симпатии созерцая тщетность любви к отчизне, в которой они, до того как рассыпаться под саблями Одиннадцатой конной, завели государственный гимн (композитор переписал его вскоре для новых господ), флаг на флагштоке (та же петрушка), университет (воспринятый целиком, кроме двух-трех вредных наук) и дворцовые церемонии народовластия. Единообразие сменявшихся правительств заявляло о себе отсутствием продовольствия, этим наследием и эстафетой; хотя мне было нужно меньше, чем другим, корочка хлеба да чашка воды, а остальное довершит фантазия, я был не прочь поесть с открытыми глазами. Наступили постоянные времена, продолжающиеся поныне. И во всю эту пору я играл и скитался, скитался, играл. В особняках богатеев и в хижинах простолюдинов, в парчовых залах казино и в мочеполовых ночлежках. Где придется, мой исповедник, ибо я, немного актер, как все игроки, приберег для вас под конец интересную новость — в заключительную минуту Яшар-муаллим проклял меня. Хуруфитским проклятием, приговорившим ученика к безостановочным странствиям в границах республиканского околотка, выйти из коих я не мог просто физически, на это сил его хватило. К безостановочным — вы понимаете, что сие значит? В тесных и затхлых, вдоль-поперек обойденных пределах я обречен был годами, не имея отдыха, удовлетворять свою картежную похоть, шляясь все теми же постылыми тропами, из Гянджи в Ленкорань, из Нахичевани в Шеки. Я, бредивший Атлантикой, островами, колониями! Дар внушения, вышколенный под управленьим учителя, — ах, об этом я уже говорил — избавил мой примелькавшийся тип от расправы, я заставлял забывать о себе после игры, дабы назавтра свалиться нечаянной радостью, но сам помнил все, и в том было дьявольское наказание.
Наваждение остановлено. По условиям кодекса, оно прекращается произнесенным вами контрзаклятием „сал-бер-йон-рош“. Я свободен. Отчего же так грустно? Круг моей жизни замкнулся, призвание умерло. Освободив, вы со мною покончили, в моей доле не было, нет и не будет запасных путей. Я больше не могу играть. Не вздыхайте так тяжко, мы исполнители, всего лишь. Что за утро! Свежесть, птичий пересвист, чинара затоплена октябрьским светом. Деньги ваши, четыре тысячи рублей».
— Денег я не возьму.
— Не смейте даже обсуждать, таково правило кодекса, жгут карман — на паперти довольно мздоимцев в лохмотьях. И это впридачу, мне больше не нужно.
Из-за пазухи вчетверо сложенная, пожелтевшая на сгибах газета.
— «Оссерваторе романо»? Откуда, боже мой? Вы катакомбный католик?
— Всмотритесь в дату.
— 26 ноября 31 года, ни о чем не… Адольфо Вильдт? Конечно!
В рамке пышно и астматически воспевались деяния усопшего скульптора, ниже, не скупясь на площадь, репродуцировались коронные творения в белом мраморе. Головное, с затылочным нимбом и уплывающими зрачками изваяние Франциска Ассизского рядополагалось Муссолиниевой маске, сработанной из тончайше раскатанного, будто тесто, листового камня с насквозь прорезанными в нем печальными овалами глазниц. Сравнив портреты, Фридман побледнел: бояться надлежало не квазиантичного оратора, в припухлых, асимметрично опущенных губах которого читалось надчеловеческое, чрезмерное для него напряжение континентальной судьбы, а неизбежность финала, нечеткого в деталях, ясного по существу, пролегла бороздами в сварливых щеках, — но притуманенного улыбкою нищеброда, экзальтирующий паяц на века раскинул сети дивинаций, опутав полчиша братцев-кроликов, братцев-ослов. Распев побирушек, босые притчи, рассказанные ногами в пыли, — наркотическая потребность главенствовать над заплетенным в полевой веночек миром прокрадывалась в мраморном лике, и Фридман отвернулся к Муссолини, отдыхая на его беззащитности. В святой Евлалии с репродукции третьей христианское мученичество возвеличивалось в стилистике салонной фотопорнографии стыка веков, тем более развратной, чем меньше вины сознавала за собой модель, — на этот раз обратную пропорцию не стесняло ничто. Разодранный хитон оголял выгнутую в неизведанном постельном оргазме юную плоть, и обнаженная левая грудь перешептывалась с долгими гладкими бедрами, а удивленно вздернутый носик упрекал небеса: ах, зачем вы оставили меня в этой солдатской стране.
— Мой идеал. Много часов и ночей. В прошлом, увы.
Читать дальше









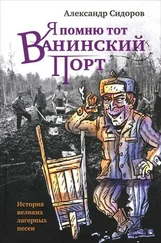
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)