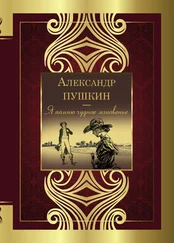— Чем вы займете себя? И на какие средства?
— Столько поприщ, — сказал азериец. — Советской школе пригодится географ, назубок шныряющий от Антверпена до Джакарты, произносящий названия горных массивов. Идите, Глезер проснется вот-вот.
— В первую минуту я хотел сказать вам: «Здравствуй, Мирза-ага». Но вы — это не он. Его нет.
— Я Хасан-бек. Уходите, я не люблю разговоров при свете.
Обменялись рукопожатием, мальчики-демонстраторы, намагниченными шестами передвигавшие профили боевых единиц, не узнали последнего хода и вывесили табличку «ничья». Фридман вышел не оборачиваясь. Лестница проскрипела под его килограммами. Одышка, надо худеть, но и этим не доказать, никому ничего не докажешь повтором частиц отрицания. Тюрк оставался в обесточенном зальчике, о чем-то бормоча в окно, отодвинув русскую речь. Его исчезновение через полчаса Марк Фридман отметил перебоями пульса. Дверь отворилась пневматически, как десятилетия спустя в супермаркетах и в набитых конторами небоскребах.
Исай Глезер одетый сидел на кровати и всепонимающе глядел пред собой.
В лавочке Иосифа Хальпера, букиниста, американца в ермолке (Тель-Авив, ул. Алленби, напротив Большой синагоги), за четыре доллара, восемнадцать с медной мелочью сиклей тогдашнего курса фотокарточка июльского дня: число месяца 19-е, год 1943-й, город Рим, отбомбились американцы, разгромив ошибочно базилику Сан-Лоренцо, кладбище и кварталы окрест. По людским данным, погибших одиннадцать тысяч, по статистическим меньше. Смятение, паника. Уцелевшие выбегают из мертвых камней. Плотник, официант, часовщик, безработный; аптекарь, муниципальный бухгалтер, фискальный чиновник; повариха, домохозяйка, цветочница, разбойник, солдат; две девчонки в огромной толпе. Горе горькое, сорваны с петель, вырваны из десен, и в открытом автомобиле Двенадцатый Пий, не побрезговал народный понтифик, в ватиканских не отлежался покоях, воздымается, помавая, крестообразный, неразлучаемый с паствой, которая, разочаровавшись в Бенито, несокрушимо верует в белые, изгибистые, восковые длани наместника. А по мне так режим был неплох в каннибальской Европе. Поймите, когда в старинной увядающей прелести, среди церквей, террас, фонтанов, голубей, это не то же самое, что в мороз и в отравляющий газ. Марши и песни нестрашные, южная опера выбритых, лысоватых с нагрудною шерстью тенорово-сексуальных мужчин, не в губительном преувеличении музыка, речи такие, что из слушателей мыла не сваришь и подушек волосом не набьешь. Вообще мало жестоко все, нет привыкания насильничать, так себе почесывающиеся вояки и полицейские, да что я тут распинаюсь. Темп работ без надрыва, щадящий, этих подстегнешь, ленивые полуголые на лесах строительных шутят, велосипед и всемирные чемпионы футбола. Сыр, макароны употребляют дети и взрослые, веселое винопитие, снаружи, внутри, заштопаны платья, потные полукружия подмышек и балкончики честно бранящейся бедности, белье сохнет не успеешь повесить, возле плаката «кампари» на облезлой стене. Поэту нравилось, из многих предпочел красот. Жил на улочке, прилепившейся к Палаццо Консерватори, к Тарпейской взбиралась скале, о чем ностальгически конфидентка, и не нарадовались частые гости. Палатин, в тенистых зарослях развалины дворцов, внизу Форум, вослед Колизей и весь Рим, за церквами и башнями в одну сторону горы, в другую равнины до моря. Лестница с крыльца в умиротворительный сад, лилии, розы, сказка фруктовых деревьев, журчливые струи фонтанчика, в котором вспыхивали золотые рыбки и ползали по краям черепахи. Четыре года на Капитолийском холме, а осенью 1939-го (война, но Италия в нейтралитете) сюда пришел вождь, стал подле жилища поэта у Тарпейской скалы и ударил киркой по земле — негоже убогим домам быть на царственном Капитолии. Улицу снесли, разрыли-перерыли и раскопали священную дорогу к храму Юпитера. Мне не грустно, все хорошо, отвечал поэт архитектору, ведь нашли via Sacra.
На стуле плетеном у Хальпера уношусь далеко-далеко, выбрался в Тель-Авив. Наскучил Лод, не Лод, придаток, из коего вид поутру на верблюдов, палевой бедуинской шеренгой, велено щипать траву, запасаясь для бубенцового перехода. Щиплют всем стадом, стыдясь отщепенца, плешивого дряхлеца с тягучей шеей плезиозавра, этому лишь бы валяться, но поспевает управа, скорей, чем поднимется ужаснувшийся горб. Погонщик не из охраны животных — палкой по ребрам, рев инвалида, и восстановлен порядок, будет как миленький жрать. Поздно пробуждается логическая совесть, когда палкой огреют. Тель-Авив верблюден-фрай, лишь с востока по четвергам с арбузной повозкой заходит киббуцная лошадь, возница поет про арбузную дешевизну, и встрепенется в кафе «Апостроф» попугай.
Читать дальше









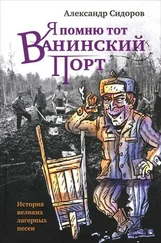
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)