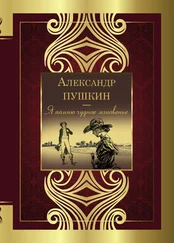Подъем был в шесть, он приказал облиться на дворе студеной водою, ковшом из бадьи (гордость удержала от скулежа) и растереться жестким полотенцем. Обряженный, вместо моей отправленной в печку цыганщины, в холщовую рубаху и холщовые штаны, я воспроизвел звериный орнамент китайской дыхательной гимнастики, жест в жест, пауза в паузу, а оттанцевав, был подведен к турнику. Пятнадцать утром, пятнадцать вечером, и через год ты станешь вдвое сильнее, но извивающимся червяком я подтянулся раза полтора и сверзился на примятый песок, под взором наставника, босого, плотного, лысого бодрячка. Чем мы хуже эсквайров, сказал он, водружая на завтрак кастрюлю с овсянкой. Кашу, как и все остальное, будем готовить по очереди, уборка и стирка на попечении обоих жильцов, курс домоводства объявлен открытым. Вам, экзекутор, моей стряпни не отведать, но на рассвете не прихвастну, а похвастаю: кулинария моя, выловленная со всеми секретами из ничего, на лету, в неоперенном парении, лишь в соусах дополненная фолиантным преданием, — без пятнышка, без изъянца, что и Яшар-муаллим подтвердил, снимавший в праздники запрет на пиры. По будням наша пища была скромной, в чем еще предстоит убедиться. Когда после обеда вышли пройтись вдоль тинистой заводи с парочкой утиц и селезнем и, на пригорок забравшись, постояли, втягивая прелый дым пастбищ, эйлагов, влажноватый дух бурок, папах, тонкорунное блеянье, хрумканье, волкодавов пороховое рычание, учитель так сказал: смотри, разуй глаза оценить привилегию нашу. Мир переполнен, города отравлены миазмами скученности. Бараки, в которых впритирку ночуют рабочие, ульи мещан, вонь тюрем и казарм, больницы с позорными койками и загаженными нужниками. Термитник. Весь активный его элемент, художники, авантюристы, мореплаватели империй, бежит к самоанцам и таитянам, к туарегам и папуасам, в крокодиловы джунгли. Не удается — обкуривается гашишем, хватает сифилис в борделях, сифилис выкосил поколения европейских артистов. Стреляется, наконец. А у нас… Пастушество, торговлишка и скудость развлечений, нет огней электричества, озаряющего проборы хлыщей, завитки полусветных мадамов, нет сложности, по которой, не надкусив, ты тоскуешь, но мы не в Мальтусовой пасти, и многое можно за это простить. Так-то так, вздыхал я, листая альбомы о странствиях и столицах из библиотеки учителя, побывать бы в тех городах и на тех островах, но Яшар-муаллим велел мне штудировать суфийских поэтов.
Я был способный ученик — гимнаст, кулинар, дворецкий. Четырех месяцев не прошло, как червячишко, размяв накачанные тренировкой мускулы, выполнил неприступную турниковую норму, освоил гурьевскую кашу и продвинулся в арабо-персидской грамматике. Как заправская хозяйка, ухаживал я за домом и, будто виртуоз-коннозаводчик, выдергивающий беговую судьбу из храпящего табунка, по начальным строчкам стихоплета мог напророчить, вывернется ли он из тухлятины своих кеннигов. Дисциплина моего ума не отставала от дисциплины тела (конечно, наоборот), нервы окрепли, сны блуждали плавно, здоровые, в основном без поллюций. Мы кололи дрова и беседовали о подвохах истории, вышагивали за околицей и гоняли чаи; стремясь не быть в тягость, я не спрашивал, что ему от меня нужно. Пробавляться неведением было позволено до ноября. Около года, сблизившего нас наподобие сына с отцом, прожил я у наставника, прежде чем с несвойственной официальностью, маскировавшей, вы только представьте, волнение, он сообщил, что преамбула выпита, кувшинчик детства иссяк, по зубам тебе твердые, взрослые яства. Выше, мой экзекутор, доводилось до сведения, что Яшар-муаллим обладал коллекцией всякой всячины, малых вещей, покупаемых за мелкие деньги…»
— Что-то такое, — сощурился Фридман.
— Как вы несобранны, это было до пения птиц, фонарь улещивал чинару…
— Я обметан ассоциациями, дальше, прошу вас.
«…за мелкие деньги. И, пожалуйста, не витайте. В закромах, в крохотулечном, прижатом к библиотечному кабинету пеннале, какой обязан иметь командир подлодки, из всех металлов морских выбирающий баренцев алюминий, и в который Яшар-муаллим пускал меня неохотно, даже вообще не пускал в это интимное место разделенного им со мною пристанища, в ящиках и коробочках, обернутые в папиросную бумагу, фольгу, хранились, как он их называл, „фигурки“, смешные уникумы чудака. Порывшись в отомкнутом серебряной отмычкой ларце — ах, будет мне врать, и кому, исповеднику, деликатнейшему из палачей: ничуть он не рылся, все обмозговано было так, чтобы не рыться, вся судьба моя поникла и сомлела у него в проекте, символизируемая изъятыми из сандаловой духоты изваяньицами.
Читать дальше









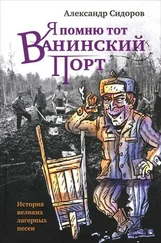
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)