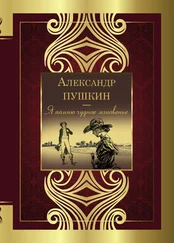Свекр сестры из Прибалтики стал весной просыпаться в тревоге. Спозаранку колобродил по квартире, брал из холодильника маслянистую пищу, изводил домочадцев шарканьем, чавканьем. Лунатически выуженная в шкафу портупея осветила строение лабиринта. Повела по винтовым ступеням вниз, сквозь амнезию, на годы и годы назад — был он вохровцем на предприятии союзного подчинения. Уклад семьи рухнул в шесть-пятнадцать по московскому циферблату: в галифе, треухе, ремнях, экипированный охранять производство, он гудел в полыхающую бело-голубыми зарницами повесть, где закопченная, под холодной Луною дымилась и пела громада — мой аргус, мой аргус. Пульсирующий взвой, точь-в-точь израильских сирен в зените января, когда ракетами из Вавилона обстрелян был Тель-Авив, и уже я, не Лана Быкова, которая здесь не при чем, надеваю на бабушку противогаз, бегом в подвал, не спрятался — не виноват, а «скад» летит, зудящая оса, летит, ночная бормашина, без промаха, по багдадской наводке… Летит и грохается — мимо! Мокрые подмышки, просверленное небо, в него возносился свекр поутру, а бабушка сама по себе умерла, зарыта на кладбище Яркон, в тель-авивском предместье. Допекал их неделю: бился об дверь, опустошал холодильник. Они вытребовали неотложку для психов и сплавили свекра, иначе с ним было никак. Навещали, бросили, надоело; в больнице врачи ему запретили быть буйным. Но на том же заводе, который манил через море и был недоступен, о чем, проведя вторую половину жизни в нерусском городе, свекр забыл, как забыл обо всем, кроме вохровской будки, на том же заводе произошло еще одно происшествие.
Техник по ремонту котлов был для порядка остановлен на проходной. Доставай, Терентьич, сказал проверяющий, проверить хочу, вдруг просрочил, и протянул трясущуюся, в ночь с пятницы на понедельник, ручонку. Терентьич не шелохнулся. Чего как не свой, поерзал тот в будке, ему нельзя было наклоняться, чтобы не вылилась вестибулярная жидкость. Техник стоял вкопанно. — Ты, Коля, жизнь мою не порть, не советую. — Николай Терентьевич положил на прилавок бордовую корочку. Наляпанный, подтекший клеем самодельный снимок в запрокинутом ракурсе, в металлическом шлеме. Буквы славянскою вязью: «Командующий дивизии тяжелых пулеметов». И в белых крестиках печать организации — Эскориал. Они вытребовали неотложку для психов и умчали Николая Терентьевича, иначе с ним было никак. Я не нашла, отгрызла заусенец Лана, объяснение этому случаю, но невозможно объяснить и то, почему капитан допотопной, до-Ноевой, на соплях из обломков скуроченной колесной развалины, вяло поплескивающей на африканской воде, не был съеден нанятыми им каннибалами, медными неграми, чья кожа перестала лосниться и пищу которых, протухшее мясо гиппопотама, он выбросил за борт под возмущенные вопли голодных. После того как сестра сообщила, что понадобилось отправить в лечебницу свекра, а сторож с проходной завода, находясь под влиянием Николая Терентьевича, отписал, что тоже собирается выправить необычную корочку, я услышала историю о Райке и ее матери, составившую с двумя предыдущими трилистник, если угодно, трилогию.
Ее звали Райка. Никто не называл ее Раей, Раисой. Она не протестовала, фамильярность номинации — последнее, чего бы не потерпела она в мире грязных сумерек и подыхающих уличных псов. Райка была чертежницей, ее мать, слободская, некультурная женщина, пробуждавшая в дочери стыд за происхождение, потому что недостойная родословная являет себя не отсутствием фамильного древа, не скелетом в шкафу, но неутаимой, сколько ни сажай под замок, плотью ближайшей родни, — мать коротала вечера за пяльцами, у телевизора и в распевании песен с подругами, такими же, по райкиным словам, деревенскими «п…рванками» (Лана не произнесла это слово, а я не могу его написать.) Жизнь обеих влачилась бы и влачилась, кабы не вздувшаяся у матери опухоль, пора было готовиться к похоронам, в особенности к поминкам, наиболее значительному, как все говорили, мероприятию жизнесмертного цикла, ибо запланированная к посещению публика, кочующая с одного поминовения на другое, так что редкая декада свободна была от звона рюмок, тарелок, от винегрета, соленой капусты и выкриков «отмучилась, бабонька», «еще встретимся, брат», подходила к ним с самым высоким критерием и придирчивым интересом. Водки, добытой у кладовщика, получившего свое без обмана, хватило бы и дружине ахейцев, переведи их с разбавленных вин в погребальный северный климат, но на закате, прекрасном, как апельсиновый аэропорт в половине двенадцатого перед вашим вылетом в Рим, в подернутую лавандой постель, а запах мускусный, мужской, не для ваших ноздрей, убран и незаметен почти в обдуваемых из окна простынях, — возвращаясь на закате к себе, в электроугольный стан Подмосковья, Райка не знала еще, что с ней будет.
Читать дальше









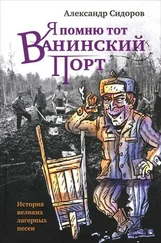
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)