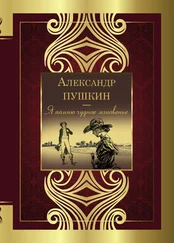Знаменит был Мэммед Саjыд, страна приставила к нему докторов, а не вылечила, в землю положит. Зароют нас, и не узнаем забот государства, кровати с подогревом, консилиума профессоров, накрашенной, в расстегнутом халате медсестры. Но в яме будем в одной. В ней наша тьма. С этого дня, сказал даглинец, молодой человек не отделял хлеб от смерти и ел его как свой последний хлеб. Он отмаялся на производстве, окончил институт, аспирантуру и, защитив диссертации, возглавил кафедру хозяйственных основ общества, в котором окна заработанной им квартиры-дворца выходили на капище службы его, Политакадемию индустриальных аграриев Закавказья. В той академии читал «К понятию крестьянства. Девять экзистенций почвы», инкорпорируя в лекции «Максимы зерен», внефакультетское свое сочинение. Всю неделю я разбирал хаотичные записи моего усопшего дяди, благоговейно приложился к фотографии на лацкане старейшина, и обрел в них то, что понуждает вас, Валентина, поспешать в церковь за караваем. Драму хлеба и смерти, хлеба и слова, злака и злачности, поедаемой в перемолотом, испеченном зерне, — незамоленной злачности, Валя. Через хлеб мы общаемся с духами, чьи корни обнимают архаику едомых культур. Впитанное их запредельной древностью солнце льется к нам в жилы. Продолжим, друзья, трапезу, время обеденное. Хлеб, освященный церковью и слезами, — это вечная тема.
На Парапете с горцами были Испанец и Шелале.
Нам навстречу идут женщины в белых чулках, по моде этого года. Со среднего возраста они игнорируют цвет невинности, как бы досадуя на него. Не настаивая на былом, попадаются мужчины в красных носках, повальной отметине предыдущих сезонов. В дни молодости моего отца, рассказывает Лана Быкова, красными носками выделялись педерасты, сейчас этот смысл не читается. — В Италии, — отвечаю, — если приспичит обозначить мужеложество соквартальника, рисуют граффити: Джованни — «педерасто», а тот сутки не вправе стирать, но бывает всяко, вчера по телевизору… — Не знаю такой передачи, я смотрю оба канала, центральный и республиканский, — морщится Лана. — Так это, Ланочка, после тебя… — Это как же? — Вы задохнулись бы от развала, ты и канючащая мать-иждивенка. С такими данными не выдержать бескормицы, погромов, подлостей войны и унижения русской речи, орудия нашего, Лана. Не представляю тебя, корифея партийной печати, посудомойкой в засаленной азиатской харчевне, торговкой спичками в опере нищих, неумытой, извини, побирушкой, ведущей на поводке маман. — Мы барабаним в таз, подайте ветеранам бани «Фантазия»! Нет, дорогой, этой катавасии не сподобилась. Одного не пойму: что, при нас в городе было меньше растления? Или количество меняется от эпохи к эпохе? — Из двух отвращений мерзее второе. Лучше букашкой во храме империи, чем служить идолу в ханстве, абортированном из чрева страны. Я прочитал их газету, на четырех куцых полосках падишах восславляется, как в Пхеньяне. Полководческий гений и дальнозоркость стратега, западно-восточный диван и фольклорная мудрость. Мекканская показуха, он же хаджи — в белой тряпке, под опахалами челяди, прошлепал верблюдом пустыни. Его тонтонмакуты, смердящие одеколоном и бдительностью… — У тебя совсем память отшибло. Вспомни, как монстр дышал на колонию. — Плесень, маразм, но не было гаитянских гротесков, плясок с куриными тушками и выкалыванием кукольных зенок. — Бросим спор, ты изъясняешься загадками. Скажи, это правда? Прошло столько лет?
Мы говорили о Саше Сатурове, Коле Аствацатурове, Коле Тер-Григорьянце.
Вы беседуете или разговариваете, шутил мой шахматный партнер, конструктор заполярной авиации, буравивший тяжелыми, навыкате, в астигматичных окулярах. Ключ к позиции выглядывал в зрачках соперника, в их расширении-сжатии от сильных и слабых полей мысли. Ты, например, подумал «конь», и зрачки остались как были, даже сузились, потому что идея твоя незначительна, это, между нами, чепуха и ремикса; а ты подумай «конище» — увеличились, увеличились! А шахматы? Ничего проще. От сильной мысли: ферзь, жертва, атака — блестят, расширяются, от слабой: вялые позиционные ковыряния — тухнут и гаснут, смекаешь?
Мы разговаривали и беседовали, и процессии женщин в белых чулках шли навстречу на променаде. В корректорской типографии я расспрашивал Лану Быкову о Коле. Увезли внезапно, что не должно удивлять, многие вещи совершаются вдруг и неожиданность их не выше, нежели у предопределенных явлений, которые, вопреки своей заданности, могли бы не произойти, подчас и не происходят. Границы зыбки, три случая ложатся вровень, тебе решать, что у нас по разряду внезапного, над чем поработала необходимость, уклонилась от диагноза Лана.
Читать дальше









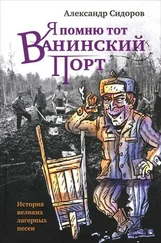
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)