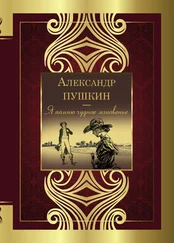Хотя признание подследственного не считалось в городе царицей доказательств, никто не отклонял моей вины по двум причинам. Сыскари понимали, что не найдут другого убивца, во-вторых, будучи детьми эпохи гниения, воспринимали самооговор как предельное произведение искусства. В остроге, в отпущенные до суда и казни две недели, я объедался рябчиками с брусничным вареньем и составлял могучий манифест, собираясь, если не пересохнет слюна, потрясти эшафот, но пятничный подвал «Посейдона» оборвал мое слово к потомкам, похерив предпраздничную, как всегда в канун площадного повешения, ажитацию властей и народа. Учитель мой, портовый репортер, отправляясь от тех же, что и обвинение, посылок, пришел к полярным выводам и взбудоражил улей. Коль скоро, рассекал он предрассудки, убийство в сочетании с раскаянием есть высшее деяние творчества, то надо не казнить, не миловать, но — возносить хвалу, увенчивать, дифирамбически возить по стогнам в колесницах. И стоит ли алтын в базарный день культура, когда в героях жирные биржевики, кадящие танцоркам оперетт, когда синематограф, зрелище илотов, диктует нормы нравственного вкуса, а юноша с глазами цвета стали томится, как медведь, на цепи, — остальное просто. Мнения раскололись. Народ, при всей мягкости нравов, хотел развлечься виселицей, в чем его поддерживала гильдия купцов. Интеллигенция была на моей стороне, заодно с переметнувшейся судейской коллегией. Прокурор, бровастый громовержец в мантии, метнул перун публичной речи, что, мол, негоже ограничивать эстетику ползучим фактом, и призвал воскресить пронзительность былых заседаний, на которых защита и обвинение сообща боролись за красоту.
До самого сочельника начальство, все решающее у нас в прогрессе политическом и гражданском, бежало ответственности, наконец, наклав в штаны, произвело компромиссный вердикт, только разъяривший противников. Меня (уступка либералам) выпустили из тюрьмы, но тайно, под покровом, вместо того чтобы, как бил в барабан посейдонец, накормить на общественный счет в ресторане «Европа», поощрить рулеткой в казино «Аладдин» и под заливистый чардаш прокатить до бахайского храма. Программа огорошила своей дунайской цыганщиной (разве не против кафешантана и фельетона он выступал?), лишь вчитавшись, докопался я до пародии.
Острая свежесть после дождя, дышали умытые купы. Он встречал меня у ворот чайными розами, вихрастый, дерганый, с заброшенным лицом и пеплом на плече. Мы обнялись, смешались рассолодевшие слезы. — Негодяи, выводят, как татя в ночи… — Полно, учитель, дорого ваше ко мне отношение, а прочее — пусть их, неважно. Отметим без официальщины, сами, израненные солдаты свободы. Пошли к ирландцам, в «Молли Блум», где айриш крим изготовлял малец в зеленой, с латунными пуговицами, форменной куртке. Тужурка, болтал он, отцовская, батюшка в Пасхальное восстание надел и принял расстрельную смерть. А пулевые отверстия, возмутился спаситель мой, что, заросли? Уж вы, ей-богу, осадил я его, это же литература, полет. Да, разумеется, опомнился репортер, мы выпили сладкого хмеля. Потом говорили о нестерпимости государства, об анархизме, неосуществимом, как все долгожданное, чей приход затянулся; я вызвался проводить журналиста до его квартирки в порту.
Пульверизаторная хвоя декабря, капель, и мы, исколотые лаской, точно иглами тибетца, разбрызгиваем в переулках зеркала и зазеркалья. Затертый среди пакгаузов и амбаров домишко понравился мне резными ставнями и палисадом, внутри находилось жилище, забитое бумажным хламом, сброшюрованным и подшитым. Но внутрь не зашли, случилось на пороге.
— Уже просек, горбатый, что было дальше?
— Да, эфенди, — ответил старший горбун. — Его ты зарезал тоже. Ножовкой-пилочкой, твоей сестрой в острожном одиночестве. Не будь прокламации в «Посейдоне», ты все равно бы ушел из тюрьмы.
— Тебе, Квазимодо, в Тринити-колледже читать многозначную логику, что-нибудь с комплексным переменным. А думаешь, из любопытства? Отличается ли вторая попытка от первой?
— Я так не думаю.
— Молодец, горбатый, имеешь собственное мнение, по нашим-то временам. Кто еще скажет на тему?
— Мне представляется, — пропела Валентина, — вам захотелось что-то доказать, себе и другим.
— Умница, себе и другим.
Разгоряченные покинули мы «Молли Блум», я предложил по дороге снять сюртуки и остаться в белых дуэльных рубахах. О, как я неловок, учитель, обронил я букет в осклизлую тьму подножия. Нет-нет, не потерплю, опередил он мой притворный нырок и преподнес мне левую лопатку. «Ы-ых», — исторглось из него, когда я не оплошал. Но зачем, зачем? Подновить проржавевшие постулаты предательства? Как выражался некий преложитель законности фацзя, ныне танцующий у шеста в мужских кабаре Восточного побережья, на этой лошади я не ездок. Меня занимала, по сей день волнует, роль личности в истории. Холостяцкая берлога репортера служила местообитанием картотеки, у хозяина потребностей не было. Дабы объяснить что к чему, я вынужден прибегнуть к нескольким рядам перечислений. В каталожных ящиках, папках, подшивках, занявших обе комнаты, коридор, закопченный четырехугольник кухни и часть ванной, где их накрывала полиэтиленовая пленка, хранились всевозможные, за много лет, сведения и свидетельства, имевшие касательство к порту, от флотской цифири приписанных к нему кораблей: водоизмещение, количество узлов, глубина килевой осадки — до жизнеописаний капитанов, мичманов, лоцманов, олицетворяющих собой для моряков все достойное уважения, а также матросов и юнг, забулдыг и давалок, указанных поименно, с подробностями их биографий. Здесь был весь порт, вся история. Так что пожелай вы справиться, какого числа беспрозванного года вышла в Кейптаун бело-голубая, груженная маслинами «Джейн Биркин», для какой контрабанды прогудела она небесам, кто был списан на берег из-за боа-констриктора в трюме, в каком кабаке капитан встретился с резидентом южно-африканской разведки в Салониках, тот с антверпенским антикваром, съевшим собаку на сбыте японского фальшака, сотен гейш укие-э, и вся притихшая компания — с консулом Советов в Бейруте, кабы захотелось вам проследить за судьбою команды, обретшей в том рейсе уйму новых впечатлений, вследствие которых зафрахтовавший судно румын нанял другую, менее подверженную галлюцинациям орду, — вы обо всем этом могли бы прочесть в открытой для публики картотеке. Никому она не понадобилась. Никто, включая обленившиеся спецслужбы, не выказал ни тени любопытства. Но архивариус, один-одинешенек на сокровищах, по крупицам намытых, был невозмутим, как викторианский покойник, лежавший на столе под простынкой, пока не попрощаются с ним родня и знакомые. Наша здоровая современность, упаковав смерть, вместе с неравенством человеков и рас, в пыльный шкаф, имеет наглость укорять предков в ханжестве. Недоумение мое нарастало: весомый вклад желтеет в непроветренном футляре, а хозяин не ударит пальцем о палец. Вы видели владельца галереи, пьющего кофе в безлюдных залах и этим довольного? Нонсенс. Не кипятитесь, сказал посейдонец. Карточки не городской архив, хотя могут выполнять и эту, побочную функцию. Рассортированные по ящикам в домике с палисадником, куда посетители ни ногой, они залог самого существования порта, как замкнутый на засовы золотой запас — основа денежного обращения. В келейных каморках — душа и магия морского бытия, которое все целиком, с причалами и судами, с людьми и птицами на маяках, зависит от одного усталого, не сломленного человека. И если я на миг остановлюсь, прекратив пополнять фонды, порт закончит свою судьбу, разделит участь племени, чей впавший в немощь заклинатель лишает дикарей дождя. К счастью, я не увижу заката, он наступит после меня. Заклинатель, возразил я, обзаводится детьми, учениками. Смены не будет, усмехнулся кудесник, вы чересчур непоседливы для таких кропотливых усердий.
Читать дальше









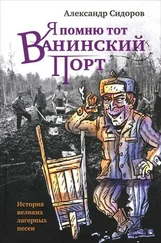
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)