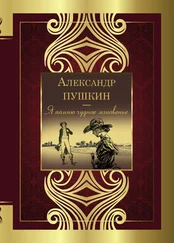Иоаннидес впал в раж, распаленный преемством и перспективой. Брюшко под поясом халата подрагивало, чувяки с бисерно-крымским (караимским?) орнаментом выписывали кренделя на ковре. Я пожалел его, но выхода не было. А что у вас наверху за альбомчик, папаша? Может, в него поглядим, скучно пялиться в одну фотку, нахамил я повторно. Натюрлих, натюрлих, сник папандреу и, мотнув головой, захромал к стремянке. Скрипки уплыли опять, сдавшись тягомотине минотавра, довольного собой настолько — он восхвалял гранитного колосса на останках врагов и друзей, памятник бойне, — что стало боязно за радиоволну, на которой покачивалась в люльке действительность. Но минотавр откатил, пришибленный людоедской, дающей ему сто очков урожайностью и сверхплановой нормой советских надоев. Из вымени хлестало в доменные печи, пока не осеклась и эта докарфагенская оргия. Бесшумно, как учили в кварталах у моря, приблизился я к белояннису. Он стоял затылком ко мне, опершись на ступеньку стремянки, и мелко подрагивал. Не хватало еще нам разрыдаться. Проведал ли, что нависло над ним? Почему не взмолился? Любопытство ваше безадресно. Бог весть. Так было нужно. С благоговением иудея, влагающего бумажку в каменную щель Всевышнего, я вонзил стилет под левую лопатку. Игнасьо Санчес Мехиас, погребенный в андалузском треносе поэта, который, презирая скупость, извлек белый лотос для чресел и миртовый аромат на уста, а мальчик принес крахмальную простыню, корзину негашеной извести и сжигающее кровь толченое стекло, — Игнасьо кивнул бы мне на арене, желтой, как йод в этот час. Грек не был удивлен, лишь всхлипнул «thank you» за доставленное неудобство. Джентльмен! И рухнул у подножия стеллажа. Агония продолжалась недолго, крови натекло мало. Обтертый тряпицей стилет я воткнул вызывающе в дыню. В ларце были найдены ассигнации казначейства, в бархатном кисете — червонцы, положившие начало моему дилетантскому собирательству. Гравюры, идол и божки оплакивали владельца, вещи не медлят. Настурции сравнялась желтизной с песком тавромахии. Наружу, прочь. Шелковая буржуазия бульвара, пофыркивая на мою затрапезность, оседала после прогулки в кафе, в бильярдных, в запотевшем аквариуме казино «Аладдин». Я по-солдатски рванул дверь нумизматов и назвал Артабана фальшивкой. Памяти фотиадеса, протрубил я у шахматистов и поставил на северный гамбит золотой.
Был выбор, последовать художественной или литературной традиции. Первая культивировала вседозволенность, вторая — признание вины и страдание. Я предпочел вторую, для чего через пару дней, когда весть об убийстве купца взбаламутила прессу и деловые круги, нагрянул к приятелю, бильярдисту в женском чайном салоне. Перед игрой он на глазах у дам разоблачался до исподнего, развратно облизываясь, натирал мелом кий и соски и с поразительным мастерством бил по шарам одной рукой сверху, а визжавшие дамочки совали купюры в повязку на бедрах. Ремесло наемного самца, отнимавшее, по рассказам друга, много нервов, вплоть до сбоев в конъюнктуре эрекций, дополнялось уважаемым поприщем осведомителя. Стервец валялся в постели и, попивая «баллантайн», прыскал на себя духами из полутора десятка флаконов; парфюмерные тропики, будуар. Кончай мастурбировать, взнуздал я нарцисса, пошли, махнемся одежонкой. (К сведению несведущих: в нашем городе заведено было так, что ежели преступник или энтузиаст из непричастных загорался быть заточенным в тюрьму, то ему надлежало в виду полицейского управления ритуально обменяться платьем со шпиком, с любым из их когорты, известной наперечет.) Совсем спятил, красавчик, зевнул корешок, у них ни грамма улик. Он сразу смекнул, кто зарезал грека, о чем промурлыкал на фене по телефону, мол, не высовывайся. Хватит разлеживаться, не переспоришь, дернул я одеяло. Мотри, девка, тебе замуж, сказал он раздушенный, подшофе.
Полиция пялилась, джокер по будням с неба не падает. Все пять дежурных одежд, выданных на полгода мерзавцу, висели в шкафу невостребованными, охотники виниться, вроде тех лестничных русских красильщиков, которые лет за полета или за сто до наших событий осаждали участки, проросли лопухами, жизнь скукожилась, выцвела. У кромки плещущего моря я сбросил робу и, обнаженный, бронзовый — не этот ли призрак истязал отрочество картежника-азерийца, небось, заждался в гостинице, потерпит, не маленький — потешался над тем, как приятель лез обеими ногами в правую штанину. Ищейки взяли нас в кольцо. Канцелярская шушера прилипла кувшинными рылами к стеклам. Защелкнулись наручники, пора.
Читать дальше









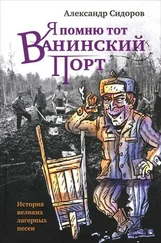
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)