На плоской крыше стояли шезлонги. В них, с лицами, накрытыми паранджами, мирно дремали голые турецкие бля.и.
Увидев наших знакомых, они почтительно встали, стыдливо прикрывая срам указательными пальцами. Гости расселись. К ним подкатили столики с шербетом и турецким шоколадом.
Муромцев бросил сто лир. Две молодые и стройные, как занозы, девушки вышли из круга заспанных шлюх.
– Я тозо котю, – захныкал Сигимицу.
Муромцев бросил пятьдесят лир. Из круга вышла третья нимфа, подобрала деньги и вежливо протянула назад Муромцеву со словами, которые Бочкин перевел как «японцам не даем». Спорить было бессмысленно – турки.
Сами Бочкин и Муромцев, замирая от плотской радости, приспустили штаны и усадили извивавшихся потаскушек на колени.
Видя такое положение, японец затянул самурайскую песню, обычно по ритуалу предшествующую харакири. Он пел о желтой японке – Луне, одиноко сидящей на троне пасмурного неба и печально ожидающей очередного посланца косоглазого Востока с взрезанным животом. Он пел о несчастной судьбе бродячего самурая, вынужденного наниматься на службу к коммунистам. Он пел о далекой Родине, о цветущих вишнях, о послушных японских девушках, о верном самурайском кинжале, разящем наповал. Он пел так жалобно, что даже проститутки расплакались.
В это время на крышу поднялся хозяин, ведя очередных гостей. Увидев «зайцев», он рассердился.
– Уходите отсюда! – заявил он.
– Сам уходи отсюдова, троцкист турецкий, сопля морская! – забыв, что он сам турок, завизжал из-под нависшей чалмы Бочкин.
Новые гости вступились за хозяина. Началась возня, обычно бегущая впереди скандала. Друзей начали выталкивать на лестницу.
В это время Сигимицу и показал, на что он способен. С криком «банзай!» он ринулся в самую гущу начинавшейся свалки.
Послышались стоны, хруст ломаных костей, падение тел, а затем все сплелись в один клубок, который, как живой, покатился по крыше, сметая шезлонги и визжащих от страха девиц.
Когда клубок стал, из него вылезли трое: Муромцев, потирая лиловый синяк под глазом; Бочкин – в разорванной чалме, с кровоточащей губой; и Сигимицу, с разбитыми в кровь кулаками.
– Шербету! – громыхнул басом на всю округу Муромцев.
Заискивающе улыбаясь, шлюхи поднесли выпивку.
– За великую Японию! – предложил Муромцев, наливая сияющему Сигимицу.
Потом все трое обнялись и пошли из борделя по лестнице, горланя уже втроем знакомую самурайскую песню. Японец шел довольный, что его уважают белые люди, а Бочкин с Муромцевым испытывали особое удовлетворение от того, что по русско-советской программе они все выполнили: нажрались, пое…ись, нахулиганили.
– Куда теперь? – спросил Муромцев.
– Валим ко мне, – отвечал Бочкин, забывший на радостях об осторожности, – в курильню.
– В курильню! – заорали трое пьяных на весь Константинополь.
И, пошатываясь, побрели на другой конец города, пугая малохольных турков, изредка попадавшихся им на пути. Когда пришли на место, Муромцев вдруг заупрямился:
– Я, пожалуй, пойду.
– Куда?
– В гостиницу.
– Да ведь ты курильни еще не видел!
– А там Машка.
– Ну, знаешь! – обозлился Бочкин и пихнул Муромцева в незаметную с улицы дверь, вследствие чего они оказались в какой-то кабинке, напоминавшей центрифугу для тренировки космонавтов.
Тотчас чей-то голос, напомнивший истопнику голос Сталина, спросил:
– Кто?
– Я! – вытянувшись во фрунт, заорал Малофей.
Погас свет, и кабина куда-то провалилась. А когда свет загорелся снова, Муромцев увидел себя посреди турков, которые с отрешенным видом опускали в голубую чашу кальяны, будто рыбаки в прорубь удочки для подледного лова, выуживая кайф из витиеватых струек дыма, поднимавшихся к сводчатому потолку, на котором люминофорами был нарисован сам Бочкин в качестве турецкого султана, наконец-то пишущего ответ запорожским казакам.
– Помру, – в Трендяковку подарю, – самодовольна кивнул на портрет Малофей.
– Естественно, – ответил несколько растерявшийся Муромцев.
В этот момент к хозяину лихо подлетел разбитной малый, поднося на китайском подносе раскуренную трубку с чубуком в форме головы Иосифа Сталина.
– Не теперь, – недовольно скривился Бочкин, – пшел!
– Недосрль… Сын Циолковского, – шепнул Малофей истопнику. – Я его держу из жалости. Мало ли… Может, тоже что-нибудь придумает – гениальное…
– Ах так, – сообразил Муромцев. – Вот что, милейший, дай-ка мне тоже трубочку, – приказал он.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
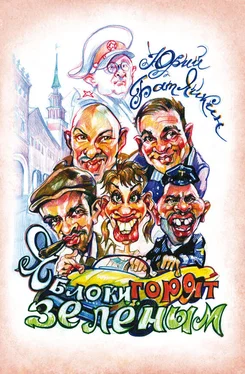






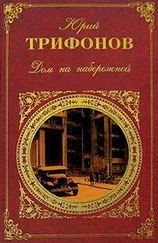
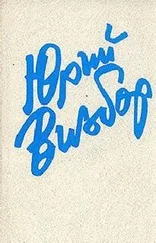


![Юрий Полухин - На радость и горе [сборник]](/books/436467/yurij-poluhin-na-radost-i-gore-sbornik-thumb.webp)