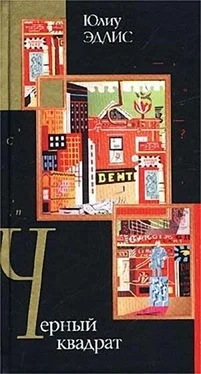Саша подошла к столу, взяла с него тяжелую, еще Василия Дмитриевича, а может быть, и его отца или деда, малахитовую пепельницу, вернулась в кресло, закурила новую сигарету, и все это молча, далекая и недоступная Рэму Викторовичу.
— Ты хочешь знать, как я к тебе отношусь… — прервала она наконец затянувшееся молчание, сказала это ровно, спокойно, будто речь у них шла о погоде за окном. — Я тебе скажу, если уж на то пошло, а уж твое дело — понимать или обижаться. Я тебя, представь себе, папа, люблю и маму тоже — голос крови, никуда не денешься. Но и — не более. А ненавижу и презираю и тебя, и ее — да, именно, ненавижу и презираю! — за то, какими вы стали, и, что ужаснее всего, на моих глазах, я уже не маленькая была, все видела, все замечала. Я вообще ужас до чего зоркая и приметливая! А стали вы… даже не знаю, как сказать… стали вы такие себе на уме и такие осторожные, будто из-за каждого угла ждете бяку какую-нибудь страшную, будто темноты, как малые дети, боитесь, и в ней вам тоже чудятся бяки и змеи-горынычи всякие, и потому вы ничего-то вокруг не видите, не замечаете, даже родной дочери… — Не дала ему прервать себя, сбить с мысли, отмахнулась рукой с погасшей сигаретой. — Знаю, что ты мне скажешь время такое было, Сталин и вся прочая гадость, страху по горло наглотались, а чтобы заглушить его, ты в свой модернизм, авангардизм, или как там его еще, с головою, словно под воду, ушел, тебе кажется, что так ты ужас до чего смелый и независимый, а все равно до холодного пота боишься, как бы тебе не досталось за эту смелость, и хоть и делаешь вид, что гордишься тем, что достанется, а все равно полны страху трусики, есть такое выражение, если ты не слыхал… А мать и вовсе вся в карьеру ушла, решила по глупости, что, если она записалась в те, которые страхи на всех напускают, так сразу и стала одной из них, можно жить с гордо поднятой головой, а на самом деле она теперь еще и того боится, что рано или поздно хватятся — не своя она, затесалась не на свое место, еще и партбилет отберут, а что у нее теперь, кроме партбилета, за душой есть? ничего. Это один среди вас всех дед ничего не боялся, ни на кого не хотел быть похожим, ни от кого не зависеть… Это моя большая беда, папа, что не на деда уродилась похожей, а на тебя с матерью, хотя вы, как вам кажется, такие разные, ничего общего. А на самом деле — два сапога пара. Только мне не по ноге они, я, слава Богу, на счастье поздно родилась… Я не хвастаю, не моя в том заслуга, но мне на ваше время, на ваши страхи и ваши делишки наплевать, для меня их нет и не было никогда. Я другая, только вы этого не заметили, не придали значения, и вся ваша любовь ко мне — знаю, знаю, любите! — в том, чтобы я стала такая же, как вы, только так, вы считаете, и можно меня защитить от этих ваших — ваших, а не моих! — страхов, а я не боюсь, мне до лампочки!
Говорила торопясь, сбивчиво, лихорадочно, будто опасаясь, что он ее прервет и не даст договорить.
Он поймал себя на том, что не слышит, что она ему говорит, этих безжалостных и справедливых слов, не в них было дело: его неожиданно и, может быть, впервые в жизни с такой ясностью и несомненностью ожгло сознание — она любит его, нет на свете человека, который бы его любил так, как любит она. С такой ясностью и определенностью он это сейчас понял, что зашлось сердце, и он едва мог сдержать слезы благодарности ей за то, что она вопреки, наперекор всему так его любит, и эта ее любовь — его и ничья больше: Ирина его разлюбила, кто знает, как прочна и как надолго окажется любовь Ольги, а Сашина у него — навсегда, что бы там ни было, и никому не под силу запретить или помешать ей любить его.
Саша перевела дух, закурила новую сигарету, заключила уже ровно, почти деловито:
— А что вам с мамой и на самом деле надо узнать обо мне, так это то, что я ухожу. В смысле выхожу замуж. И не делай такие круглые глаза! Я и так опоздала — двадцать шесть лет, можно бы было уже иметь по крайней мере двоих детей, вон бабушка родила тебя чуть ли не в семнадцать. Погоди! — опять не дала ему сбить себя с мысли. — Ты хочешь спросить, за кого, кто он… А вы с ним уже успели познакомиться у твоего приятеля или собутыльника, не знаю, кто он тебе больше, ты еще ему что-то наплел, будто был знаком на войне с каким-то его родственником, дедом, что ли…
— Анциферов?! — только и мог он выдохнуть из себя, да еще краем сознания мелькнуло: вот он, узелок, не развязать, не разрубить, который — а он это знал, предчувствовал загодя, всегда! — связал его намертво с Анциферовым!..
Читать дальше