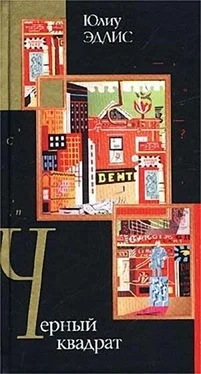Но еще долго, собственно говоря, до самого того дня, когда он разошелся с Ириной и по взаимному, впрочем, навязанному Ириной, решению съехал с квартиры в Хохловском переулке и окончательно поселился на даче, — еще долго Рэм Викторович, работая за письменным столом в желтом круге лампы, который, однако, уже не отсекал его от всего остального мира за стенами дома, не создавал ощущения уюта, покоя и безопасности, — еще долго Рэм Викторович ловил себя на том, что, утеряв нить мысли, не может оторвать взгляда от угла верхней полки стеллажа, у самого потолка, где за книгами хранилась — зачем? в ожидании чего? в расчете на что? — тощая папка с его запиской.
И долго еще в каждом телефонном звонке подозревал Логвинова.
И — ни слова о том, что произошло, с женой, отчего трещина, пролегшая между ними, еще больше увеличивалась и росли раздражение и желание во всем обвинить ее, Ирину. С давешними мечтами о тихой, скромной и достойной жизни настоящего ученого, в покойном кресле с пообтершейся обивкой, под мягким светом торшера, за крепостными стенами книг от пола до потолка — со всем этим приходилось расстаться.
Однако при всем при том жизнь в доме катилась, если посмотреть со стороны, по все той же наезженной, неизменной колее, словно бы ничего и не случилось, все и вся находятся на своих, положенных им местах.
И даже Ольга, которая должна была, казалось, решительно перевернуть вверх тормашками жизнь Рэма Викторовича, — даже Ольга странным, противоестественным образом как бы вписалась в эту его жизнь, стала просто еще одной составляющей ее частью. Хотя, убеждал он себя, если что и было в его нынешней жизни настоящего, неподдельного, чего бы он никому не позволил отнять у себя, была Ольга.
Слова «любовь» Рэм Викторович старался и про себя не произносить — это обязало бы его решиться на какой-нибудь необратимый поступок, уйти из дома, жениться на Ольге, начать все сначала, а покуситься на это Рэм Викторович не находил в себе ни сил, ни воли.
И все же жил он от одной встречи с ней до другой, а между встречами была одна щемящая, холодная пустота, словно туман, сквозь который идешь, не зная куда и зачем, в надежде, что куда-нибудь да выйдешь.
Встречались они у нее, в крохотной, три метра на четыре, комнатке с низким потолком и сиротской обстановкой, которую она снимала в Перове, почти за городом, у тюремного надзирателя из Бутырки, добрейшего и всегда пьяненького дяди Пети и его жены тети Тани — так их звала сама Ольга. В ее каморку приходилось пробираться через их комнату, и Рэм Викторович старался это сделать как можно быстрее и незаметнее, пряча глаза, на ходу молча ставил на стол бутылку водки для хозяина и клал плитку шоколада для хозяйки.
И любовью они вынуждены были заниматься тоже молча, в вечной опаске, как бы не заскрипела под ними панцирная сетка узкой железной койки, и от этого Рэм Викторович испытывал едкое унижение.
Приходя из Бутырки домой, дядя Петя съедал полную кастрюлю постного борща, от которого вся крохотная квартира в барачном доме пропахла капустой и чесноком, и садился играть с тетей Таней до темноты в подкидного дурака. Иногда они заводили — из деликатности, чтобы не слышать, что творится за дощатой хлипкой перегородкой, — старый, скрежещущий при каждом обороте пластинки патефон. Пластинка, собственно, была одна: на одной стороне — «Едем мы, друзья, в дальние края», на другой — «Комсомольцы, беспокойные сердца», под эту музыку долгие месяцы, пока Ольга не переехала на другую квартиру, и проходила ее и Рэма Викторовича любовь.
Он все больше привязывался к Ольге, безнадежно пытался убедить себя, что, как ни чурайся он этого слова, а любит ее, пусть и по-своему, как умеет, опасливо и с оглядкой, но ответа на вопрос: что дальше? — не находил и не видел. И вместе с этой неразрешимостью росло унизительное, неотступное чувство своей нечистоты и вины перед Ириной и дочерью.
Каково же было от всего этого Ольге! — приходило ему в голову, но жалел он при этом не Ольгу, а себя.
И все же они, как бы не понимая или не замечая всей безысходности своего положения, продолжали жить этой невыносимой для всех них жизнью — Рэм Викторович, Ирина, Саша, Ольга. Двужильные мы, что ли?! — взмаливался Рэм Викторович, но выхода найти не умел.
Еще он ревновал, тайно и бессильно, Ольгу к тем наверняка не просто рисующим с натуры, а и вожделеющим эту натуру прыщавым, с сальными длинными волосами и пальцами в разноцветных мелках, юнцам, перед которыми она позировала совершенно голой. И когда однажды она сама заговорила о том, что пора и честь знать, не такая уж она молоденькая, чтобы выставлять свою наготу на всеобщее обозрение, и надо бы переменить профессию, вернуться к той, которой она занималась прежде, до того как стать натурщицей, — машинописи, он не скрыл своей радости и сам же, через бывшего товарища по университету, устроил ее на работу в издательство детской литературы, где она, по ее же словам, могла еще и подрабатывать печатанием «левых» рукописей.
Читать дальше