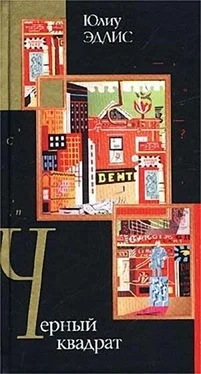Сделал паузу, дожидаясь, что на это скажет Иванов. А Рэм Викторович сразу понял: Ирина, кто же еще, — и даже скрежетнул зубами от негодования.
Не дождавшись ответа, Логвинов взял книгу со стола.
— Читали? — спросил, перебирая страницы, будто ища в ней какое-то определенное место.
— Нет, — слишком поспешно, тут же укорив себя за это трусливое отречение, открестился Рэм Викторович, — не попадалась, да я по-итальянски и не читаю. — И, как бы оправдываясь перед самим собой за свою постыдную поспешность, добавил: — А вот стихи из этого романа… да их вся Москва знает.
— Стихи — да. — Было непонятно, и Рэм Викторович тут же вспомнил Анциферова, то ли Логвинов ставит ему это в заслугу, то ли в досадную неосмотрительность. — Мне говорили, что вы хорошо знаете и разбираетесь в творчестве товарища Пастернака. — Но ударение, которое он сделал на слове «товарищ», призвано было подчеркнуть, что никаким товарищем он Пастернака не считает. — Потому-то нам и интересно знать ваше мнение.
Невольно в памяти Иванова всплыли строки стихов из романа: «На меня наставлен сумрак ночи…» и еще, уже и вовсе предчувствием опасности: «Я один, все тонет в фарисействе…»
Однако ни голосом, ни выражением лица попытался себя не выдать:
— Просто я всегда любил стихи.
— Да, очень интересно, — повторил Логвинов, напирая на свое округлое и уютное «о».
— Вам? — невольно спросил Иванов.
— Нам, — будто ставя его на место, строго сказал Логвинов. — Вот и выходит дело, что кому же, как не вам, товарищ Иванов, и карты в руки?
— Я непременно прочту. В «Новом мире», — попытался увильнуть Рэм Викторович. — Вероятно, по традиции роман будет опубликован там.
— Не будет! — раздраженно прервал его Логвинов. — А насчет традиции вы, к сожалению, правы — где еще, как не в «Новом мире»! Но журнал проявил в кои-то веки принципиальность, отказался печатать. И там не без принципиальных товарищей. Но я вам дам почитать. Почитайте, почитайте.
— Но я, товарищ Логвинов, не специалист, не литературовед…
— И очень даже хорошо, нам от вас не того надо. И без вас этих, знаете ли, литературоведов из недовыявленных в свое время космополитов… Вы свой человек, я имею в виду — наш. Именно вам, повторяю, и карты в руки — говорят, вы чуть ли не все стихотворения и поэмы этого автора наизусть знаете. А я, развел как бы в смущении руками, — я, знаете ли, больше Исаковского люблю, Твардовского, Долматовского. — Но чтобы Иванов не подумал, будто ему нравятся только поэты, чьи фамилии кончаются на «ский», поспешно добавил: — И, конечно же, Суркова, Щипачева… Однако о вкусах, как говорится, не спорят, хотя эта посылка сама по себе очень и очень спорна. — И, порадовавшись собственной неожиданной остроте, громко и довольно рассмеялся. — А от вас нам нужно, чтобы вы именно с партийной в широком смысле, а не просто с искусствоведческой — вы ведь доктор, если не ошибаюсь, искусствоведения? — с философской, можно сказать, точки зрения прошлись объективно и без скидок по всему, понимаете ли, творчеству автора и выявили истоки — именно истоки, самые корешки! — идейных блужданий товарища Пастернака. Личность заметная, со счетов не сбросишь. Философия, — постучал он костяшками пальцев по столу, — философия его, та, что не в одних словах, а глубже, на самом донышке, вот чего нам от вас нужно. — И, словно бы уже получив согласие Рэма Викторовича или по крайней мере нисколько в нем не сомневаясь, пояснил: — Но в разрезе, понимаете ли, того факта, что он переправил роман за границу, врагам, а это уж ни в какие ворота не лезет, это, знаете ли, даже в кодексе предусмотрено!
Рэм Викторович вдруг понял, что он совершенно беззащитен перед той высшей волей, которую он всегда угадывал за — или над — Анциферовым, как вот сейчас за Логвиновым, и у которой, как у библейского бога, нет имени, имя ее непроизносимо и тайно, потому что она, эта воля, — все. И он у этой тайной, беспредельной воли — заложник, галерный раб, говорящее орудие.
Логвинов же вынул из ящика письменного стола еще одну книгу, от обложки и корешка которой еще пахло переплетным клеем, с мелко напечатанными на ней уже по-русски словами: «Для служебного пользования», протянул ее через стол Иванову:
— А документ, — так и сказал: «документ», а не «роман» или «книга», документ — прочли, проработали и вернули. Вы свободны, товарищ Иванов, желаю удачи.
И Рэм Викторович машинально взял у Логвинова книгу, вышел из его кабинета и торопливо, перепрыгивая через две ступеньки, понесся на второй этаж, к Анциферову.
Читать дальше