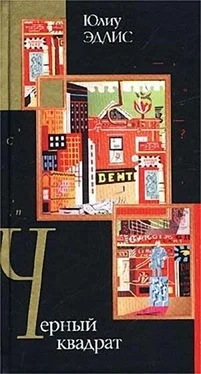— Ну?! — нетерпеливо потребовал Нечаев.
Рэм не ответил. Все это было так переплетено, так одно из другого возникало, чтобы тут же раствориться друг в друге, все это полыхало вокруг него бесовским хороводом, дурманило и дурачило, и не было, казалось, на чердаке точки, оси, где встань — и остановится эта безумная свистопляска. И еще менее был он уверен, что ему это нравится.
— Ну?! — настаивал Нечаев. — Ты на каком факультете?
— Раньше был на философском, теперь на филологическом.
— Философском?! — не то поразился, не то вознегодовал Нечаев, найдя наконец простейшую разгадку немоты Рэма, его слепоты к искусству. — Так бы сразу и сказал, я бы на тебя не стал терять времени, да еще водку с тобой придется пить, не пропадать же добру! Гегель хренов! — И даже сплюнул на пол от отвращения. — Для вашего брата с засохшими, как коровьи лепешки, мозгами все очень просто — формализм, и все тут! Наперед все по полочкам разложили, как в детской считалочке: «да» и «нет» не говорите, черное и белое не выбирайте… Да! — крикнул монументалист с такой злобой и ненавистью, что Рэму показалось, что он полезет на него с кулаками. — Да! Формализм в чистом виде! В чистом, понимаешь, в девственном! Не как у какого-нибудь там Пикассо или Сикейроса с Ривейрой! Или даже Леонардо — у них у всех идея, видите ли, впереди лошади впряжена, религия какая-нибудь или, хуже некуда, политика. А у меня безыдейный, чистый, как слеза ребенка на Пасху, абсолютно вольный, бескорыстный формализм. Фор-ма-лизм, да! И я плюю и на вас, и на тебя, и на Пикассо с мексиканскими этими прохиндеями идейными! — Но тут же уточнил полным собственного достоинства голосом, как равный о равном: — Для Леонардо, правда, делаю исключение. — И вдруг сменил тон почти на искательный: — Не нравится?..
— Не знаю… — выдавил из себя Рэм. — Просто как обухом по голове…
Нечаев разом просветлел, счастливо, совсем по-детски заулыбался:
— Что и требовалось доказать! Именно что обухом! По башке, по печени, по поджелудочной железе! Котелок у тебя, похоже, с серым веществом, а не с пшенной кашей стылой, не расхлебаешь! Ты лучше всякого кретина-искусствознатца сказал — обухом, обухом!
И вдруг заторопился:
— Ты, пока я закусью займусь, чтобы малость передохнуть от того, что тебе, видать, не по зубам еще, полистай-ка вон рисуночки с натуры. Кондовый, пропади он пропадом, реализм, тут и понимать нечего. — И вывалил перед Рэмом на стол пухлую папку с рисунками пером и углем. — Ты из чего пить-то будешь, Гегель-Фейербах? Из граненых, как истинно русский человек? А то у меня, представь, один лафитничек где-то завалялся. — И скрылся за дощатой перегородкой, где помещалась, по-видимому, кухонька.
В видавшей виды картонной папке на завязочках Рэм обнаружил с полсотни, а то и больше набросков, решительно ничего общего не имевших с тем, что висело вдоль стен мастерской: четкий, нежный рисунок, сделанный мягкой и чуткой рукой, и даже какое-то почти сентиментальное умиление перед моделью. А модель на всех рисунках была одна — тоненькая и хрупкая, даже не хрупкая, а словно бы вставшая только что после долгой и изнурительной болезни девушка, с острыми коленками, с по-детски недоразвитой грудью, ребра просвечивали сквозь тонкую, прозрачную кожу, стройные, худые ноги с аккуратными узкими ступнями. Рэм не мог решить, хороша ли собою модель и сколько ей лет — судя по легкости тела, и семнадцати нет, то ли все сорок: взгляд больших, над круто выступающими скулами, глаз глубок и многоопытен, и опыт этот, по всему видать, отнюдь не безоблачен.
Рэм перебирал лист за листом рисунки из папки, и с каждого на него пристально смотрело, словно ожидая от него ответа — какого? на что? — одно и то же лицо, и хрупкостью, незащищенностью своей вызывало жалость и нежность одно и то же тело.
Тут-то она и вошла в дверь чердака, он ее сразу узнал. Скорее даже, прежде чем узнать, догадался. Не здороваясь, она сняла с себя слишком длинный, явно с чужого плеча, пыльник, оставшись в коротком, открывающем ноги выше колен и туго обтягивающем тело бумазейном платье, и сквозь платье Рэм невольно угадывал ее худое, легкое, словно бесплотное тело. И оторвать от нее — как только что от рисунков — глаз не мог.
Так же молча она зашла за перегородку и через несколько минут вернулась уже не в платье, а в старой мужской, по-видимому, нечаевской, не первой свежести, рубахе, еще короче платья, в вырезе с оторванными пуговицами, когда она нагибалась, виден был верх ее плоской, детской груди, и Рэму ничего не оставалось, как смущенно отвернуться.
Читать дальше