– Бред какой-то, – снова вмешался Домбровский. – Откуда вы знаете, что кустарник хочет вступить с вами в брак?
– И что, что не знаю, и что?! Другой – всегда загадка. Мы никогда не знаем, что хочет другой. Вот ты, например, Домбровский, когда вступаешь в связь с женщиной, ты что, ты думаешь, ты знаешь, о чем она там думает, чего она на самом деле хочет? Да она сама не знает, чего она хочет!
– Гвоздев! Прекратите свои сексистские выпады! – закричал женский голос.
– Да у тебя таких органов нет! – крикнул другой голос, уже мужской. – Чтобы в связь с кустарником вступать!
Я увидел, что многие начали уже подниматься со своих кресел.
– Бардак какой-то… – с досадой пробормотал Домбровский.
– И что?! – парировал Гвоздев. – А у наших меньшинств тоже нет специальных органов, чтобы секс был, извиняюсь, адекватным! Ясно вам?! Но они же справляются, правда? Так и мы с кустарником тоже справимся! И потом, связь – это более серьезная вещь, чем секс. А речь идет о связи. Короче, правозащитники не должны останавливаться на том, чтобы защищать права одних только геев.
Он положил микрофон на стол и пошел назад к своему месту.
– Это все бред и реакционная демагогия! – крикнул ему в спину Домбровский.
Председатель тускло улыбнулся и сказал, приблизив лицо к микрофону:
– Ну что ж. Страсти, как я вижу, накалились. Но не будем, как говорится, пережимать. Мне кажется, это очень важно, что у нас есть такие разные мнения. Спасибо, Константин Сергеевич, – повернулся он к Домбровскому. – А теперь давайте подведем некоторые итоги сегодняшнего заседания…
Уже третий день как мы вместе. Днем встречаемся, обедаем, потом гуляем, куда-то спешим. Перед нами мелькают улицы, площади, тяжелые фонтаны, памятники. Мы заходим в маленькие дворики, сидим в кафе, по многу раз болтаемся в живой человеческой похлебке на Монмартре. В Марэ, в еврейском квартале, покупаем какие-то пирожки, в зоологическом саду разглядываем кенгуру, дремлющих на зеленом газоне, а на пряничной площади Вогезов – памятник королю.
Мне кажется, что мы здесь давно, с доисторических времен, что мы попали в разрезы этого кремового торта, сделанные то ли ножом повара, то ли скальпелем хирурга, в промежуточности огромной приторной топографической массы, в изначальность, где нет ни времени, ни пространства, ни отчаянья, ни боли, ни тяжести, ни надежд. Только лишь легкость и движение.
Вставать с постели, принимать душ, завтракать, бежать, трястись в метро, бояться опоздать, обниматься, идти, ехать, открывать и закрывать двери, садиться за столик, обедать, курить, снова идти, толкаться, топтаться на месте, хохотать, болтать без умолку, ужинать, целоваться на прощание, возвращаться к себе, ложиться в постель. И всё это без тела, без идей. Мы оба словно подхвачены каким-то доисторическим лихорадочным безумием, общим беспамятством.
Я чувствую, что все тает, теряет очертания, уходит в прошлое дурными анекдотами, которые я так любил, и Джулия, и весь этот форум, и Гвоздев, и Погребняк, и Шарик с Бобиком. Здесь только стройность ее сильных прохладных ног, вывороченность губ, водянистость глаз, наклон головы, когда она слушает мой голос, нервные движения пальцев, перебирающих золотую цепочку.
Странно, но всё вокруг как будто заново обретает свой вид. Женщины кажутся гарпиями, мужчины – скелетами-землеробами. Фонтаны – гигантскими прорвавшимися наружу гнойниками. А соборы и церкви – чудовищными насекомыми из древнего кошмара, которые вылезли из мутных вод и встали, замерев, опутанные каменными паучьими кружевами. Тут на земле они освоились. Ощетинились иголками, палицами, утыканными шипами. Наверное, чтобы защититься от неба, уколоть его, упрекнуть в никчемности.
Площадь перед собором Нотр-Дам, обдуваемая ветрами. Полтысячелетия назад здесь жгли его «Наставления». А он потом у себя в Швейцарии в отместку сжигал их ученых. Медленно, методично, одного за другим. Словно пуговицы на куртке расстегивал. Перевоспитывать было уже поздно… «Наставления» замедляли время, учили не чувствовать боль, видеть сквозь огонь тщеславие, гнойные потуги, зависть, похоть, фарисейство, гримасы отверженных. Там говорилось, что свобода бывает только в Боге, а вне Бога – гнусное рабство. На эти мысли его, наверное, натолкнул, благословил сам Бог, и потом уже он никогда не любил Рима, и Папу, и все эти церкви с иконами и витражами, а выбора уже не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




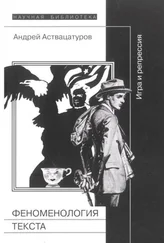




![Андрей Аствацатуров - Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres]](/books/404752/andrej-astvacaturov-haos-i-simmetriya-ot-uajlda-d-thumb.webp)

