Надо было, конечно, как-то иначе начать.
Не удивлена ничуть. В руке – незажженная сигарета. Взгляд насмешливый.
– Привет, сладенький… ( пауза ). Знаешь, что будет, когда он вернется?
– Знаю. Он вернется – это и будет.
Теребит свою цепочку на шее, смотрит мне прямо в глаза и усмехается. Знакомое движение пальцев. Мне кажется, во всем городе только я один знаю эти пальцы с длинными красными ногтями и эту их приятную суетливость. Краем глаза слежу за входом в ресторан.
– Ты бы, сладенький, переоделся, что ли? А то мне нравятся красивые, богатые и хорошо одетые. Ясно?
Отводит взгляд. Сука! Разговаривает так, будто повторяет за кем-то очень знаменитым и будто сюда по ее душу съехались все мировые телеканалы. Тоже мне звезда… Но у меня своя роль.
– Ничего, – говорю. – Хоть раз в жизни сделаете исключение. Вот…
Кладу на стол визитку ресторана, всю исчирканную ручкой. Там всё – мое имя, фамилия и адрес отеля.
– Господи… – она брезгливо морщится. – Вали отсюда.
Поднимаюсь. Нет, все-таки надо играть до конца.
– А без микрофона вы тоже неплохо смотритесь.
Это – ей на прощание.
– Вали, говорят тебе!
Тревожно оглядывается, мнет визитку и прячет ее в крошечную красную сумочку.
Ухожу – на самом деле почти убегаю – не оглядываясь.
Шел очередной день форума, и Погребняк вдруг ни с того ни с сего попросил, чтобы я его больше не называл «философом-постмодернистом». Он объявил, что передумал быть постмодернистом и решил стать неогегельянцем, левым. Мы как раз сдавали куртки в гардероб.
– Это как Маркузе? – спросил я, пряча номерок в карман брюк.
– Что-о? – заморгал Погребняк и вдруг почему-то разозлился: – Сам ты как Маркузе, понял?! Маркузе – это для таких олухов, как ты, которые ни в чем не рубят. Нормальные люди, как я, как Тёма Магун, уже давно читают Адорно. Ясно?!
Я покорно кивнул. Философа Магуна я хорошо знал. В философии он был человеком авторитетным.
Потом мы сидели в большом зале и слушали одного московского философа. Было очень душно. Тот выступал долго и говорил о программе немецкого идеализма, сочиненной Гегелем, Шеллингом и Гёльдерлином. Помню, он сказал, что их модели мира предполагают, будто грань между субъектом и объектом размывается, и они, субъект и объект, едва ли становятся различимы. Возникает точка, развивал свою мысль философ, где субъект уже становится объектом, а объект – субъектом. Свое выступление московский философ завершил сложным афоризмом, что, мол, ежели мы меняем мир, то и сами в нем меняемся. «Этот лозунг, – заключил докладчик, – начертали на своих знаменах все марксистские революции». После чего все с энтузиазмом захлопали.
Во время кофе-брейка я отыскал Погребняка. Он стоял возле фуршетного столика с двумя девушками и что-то им рассказывал. Увидев меня, он прервался и тяжело вздохнул.
– Извините, девушки, – сказал я. – Саша, у меня к тебе философский вопрос.
– Какой? – иронически переспросил Погребняк и скрестил руки. – Философский? У тебя?
Девушки захихикали и начали шептаться. Одна из них принялась теребить янтарные бусы на пологой груди. Я смутился.
– Ладно, – смилостивился он. – Давай свой вопрос…
– Саша, я вот не понял, как это так, что субъект становится объектом, а объект субъектом? Объясни…
Погребняк в ответ уставился на свои ботинки, толстые и раздутые, как баклажаны, потом погладил небритый подбородок и перевел взгляд на девушек:
– Значит, так, Андрюша… Я тебе сейчас стихотворение одно прочту, ясно? А ты, пожалуйста, запомни и заучи наизусть.
Он шумно прочистил горло и произнес:
Как у наших у ворот Шарик Бобику дает
А потом – наоборот: Бобик Шарику дает.
Я осторожно поправил очки. Одна из девушек, та, что с янтарными бусами, слюняво фыркнула.
– Понял теперь, как субъект становится объектом? – спросил Погребняк.
Я кивнул.
– А ну-ка повтори!
Я послушно повторил. В конце концов, если унижаться, так уж до конца.
– Молодец! – Погребняк потрепал меня по плечу, потом поднял вверх указательный палец и резюмировал:
– В этом стихотворении – весь молодой Гегель. Запомни, заруби себе на носу! И Маркс, кстати, тоже… Всё, дорогой, извини, у нас тут разговор.
Возвращаюсь в гостиницу, открываю ключом дверь, захожу в свой номер. Шарик-Бобик, Бобик-Шарик, субъект-объект. Гвоздев потом сказал, что философия – это выяснение субъектно-объектных отношений между ёкселем и мокселем. В крошечной комнате чисто, прибрано, пусто. Ни пивных бутылок, ни окурков, ни хлебных крошек, ни прочего реквизита прошлой ночи. Видимо, с утра приходила уборщица. Душно – низкий потолок, и вдобавок пахнет какой-то химической херней.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




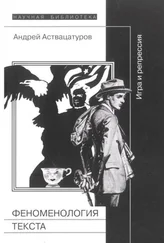




![Андрей Аствацатуров - Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres]](/books/404752/andrej-astvacaturov-haos-i-simmetriya-ot-uajlda-d-thumb.webp)

