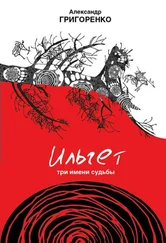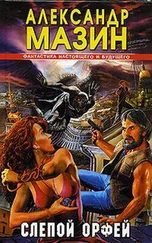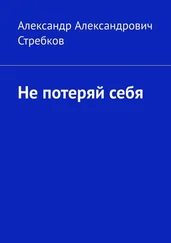К тому же, не стоит считать себя негодной травой – у меня есть славянская Библия, икона, шестидесятилетние цветы – некоторые прекрасно сохранились, – квитанции с молокозавода, Личная книжка, Трудовой список, Духовная песнь, написанная корявыми, пляшущими буквами… Ведь вся эта компания вещей, отделившись от своих хозяйственно полезных собратьев, сбежала именно ко мне – ради чего? Наверное, потому, что там, в родном доме, была бы им смерть, и след оставившего их человека сгладился бы совсем. А он, мой предок, видимо, не хочет этого и чего-то ждет от меня… Чего?
Народу от писателя остаются книги – и больше ничего.
С книгами после ухода их создателя время творит что-то, напоминающее изготовление мечей оружейниками древней Японии. Железную полосу, множество раз перекованную внахлест, мастер закапывал в землю лет на двадцать, нарочно в самом сыром месте, чтобы живая земная влага выела, превратила в ржу все ненужные примеси, оставив только чистейшую, благородную сталь.
В книгах после такого испытания должно оставаться неуловимое, непередаваемое Нечто, которое иногда называют «существом жизни». И то, что в наследии писателя побуждает к жизни, заставляет жить – то и есть благородная, чистейшая сталь, которой нет износа. На словах все это красиво, но, памятуя какой неблагодарный труд – писательство – жестоко. Выживает лишь немногое. Ни Чехов, ни Толстой, ни Тургенев, ни прочие, которым мы по обычаю клянемся в священном и вечном почитании, не избежали этой участи. Наверное, один лишь Пушкин, который «наше все», оказался без «примесей» – так ведь он уже давно не человек и не писатель даже, а божество и часть речи.
И как бы ни зашкаливало нашу «благодарную память», невозможно не признать, что наследие русского писателя Астафьева закопано на сыром берегу, а время и «соки земли» уже начинали свою очистительную работу.
Я не собираюсь пророчествовать, как долго и какие именно книги Астафьева будут читать. Но все же я чувствую в себе право говорить о том, что останется после него. И стоит это право не на преимуществе особого ума, высокого положения и тем более близкого личного знакомства – здесь все наоборот. Это право стоит на моей обыкновенности. Я русский человек среднего возраста, потомок крестьян и типичный, укоренившийся горожанин. Я один из миллионов тех, кто бродил по созданному им миру, и этот мир – пока скажем так – потревожил во мне что-то глубинное и истинное. Бог даст, я еще поживу и посмотрю, что будет со всем этим – потревоженным – и со всеми нами. И потому я с полным правом говорю: все, что написал Астафьев – он написал для меня, я чувствую в его книгах то, что дает желание жить, и то, что его отнимает.
Уходил он под канонаду, вызванную романом «Прокляты и убиты». К литературе эти «боевые действия» не имели почти никакого отношения – спорили о том, как мы победили в войне – героизмом, или просто завалили врага трупами?
Пока одни слали озлобленные письма в озлобленные газеты, другие в солидных журналах сопоставляли цифры «человекозатрат» с той и с другой стороны, меня не покидало ощущение, что каждый из этих людей говорит не о том – никто из них не читал романа, как и вообще его книг. Но самое поразительное, почти все интервью Астафьева оставляли то же самое впечатление – казалось, он не помнил, о чем сам написал.
Он принадлежал к партии, которая провозглашала, что «трупами завалили» (по-моему, даже возглавлял ее), и получал за такую партийность «возмущенные выступления ветеранов войны и тыла», частные письма с угрозами башку оторвать – отчего сам от ответа к ответу становился злей, Жукова называл людоедом, Манштейна – лучшим полководцем (потому что первый солдатских жизней совсем не жалел, а второй расходовал их рационально), считал, что не соглашаться с ним могут только генералы (он их скопом не уважал), партийные лизоблюды, крысы тыловые и простолюдины, одурманенные советской пропагандой.
Конечно, были и те, кто понимал, о чем итоговый роман русского классика. Понимали его товарищи по ремеслу, и особенно те ветераны «из простых», которые наконец увидели такие слова о войне, которые не могли видеть всю свою жизнь. Это они писали ему: «Спасибо тебе, фронтовой брат».
Но тогда, во второй половине 90-х, еще не догадывались, что битва эта по сути своей иконоборческая. Даже если суждения про Жукова и Манштейна объективно верны, их можно подтвердить цифрами, посягательство на «иконы», оставленные войной, – предприятие болезненное и опасное.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

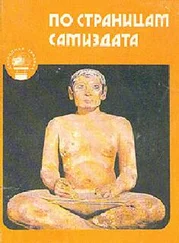


![Лоренс Сандерс - Слепой с пистолетом [Кассеты Андерсона. Слепой с пистолетом. Друзья Эдди Койла]](/books/82026/lorens-sanders-slepoj-s-pistoletom-kassety-anders-thumb.webp)