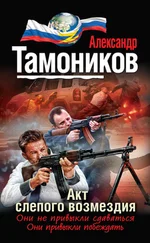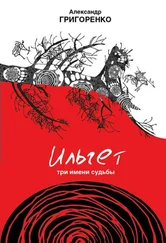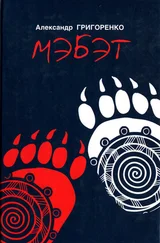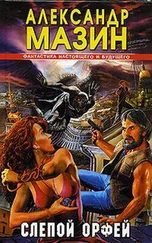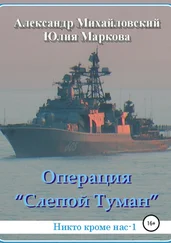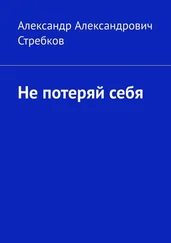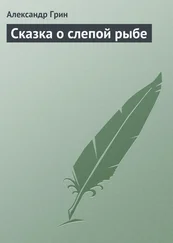Жизнь – как биологическое существование – важнее ее смысла уже потому, что первичнее. И отнимать жизнь под каким бы то ни было высоким предлогом – преступление. Человек, знавший в лицо и по имени неимоверное число живых существ – трав, насекомых, рыб, птиц, людей, – чьи книги тропически насыщены жизнью, любовью к ней, – закономерно пришел к такому аполитичному, антигражданскому, антиисторическому итогу.
Он написал бы еще, сам признавался: «Смертный материал переполняет меня», – но отпущенных дней оказалось меньше, чем несказанных слов.
P.S. 13 лет спустя
Этот текст написан к первому дню рождения Астафьева, который праздновали уже без него. Меня тогда хвалили за смелость, поскольку там не только панегирики. Теперь я постеснялся бы и такого пафоса…
Когда он умер, сделали все не так, как он просил. Овсянку, конечно, не переименовали, но пединститут стал имени В.П. Астафьева, и памятник поставили в историческом центре города – фигуру в пальто, к которой можно привинтить любую другую голову – Ленина, Ким Ир Сена, Дзержинского, знатного строителя, народного артиста – и все будет похоже, все в дело пойдет. Рассказывали, что был другой проект, подушевнее, но победила фигура в пальто.
Выпустили книгу, в которой напечатали все, опубликованные в газетах репортажи с похорон, все телеграммы с соболезнованиями.
В родной деревне организовали два музея – персональный и крестьянского быта. Не знаю, много ли пили на поминках – он просил много не пить, а лучше молиться за него…
И уж совсем не знаю, думал ли он, когда заклинал от переименований, наименований, памятников, что требует невозможного? Понимал ли, что без него Красноярск уже безвозвратно скользнет в провинциальное болото, и потому будет цепляться за единственное имя, придававшее городу хоть какую-то общероссийскую значимость?
Лет до тридцати пяти этот город казался мне абсолютно самоценным, не хуже столиц. В нем жили умнейшие люди, некоторые из них были моими друзьями, здесь ставили замечательные спектакли, издавали множество газет, которые ругались друг с другом, из чего получалась интеллектуальная и общественная жизнь; были храбрые и честные журналисты, которых безуспешно пытались подкупить богачи, и журналисты, служившие богачам; имелись в наличии литераторы, представлявшие все направления – от «почвы» до чистого эпатажа – и той же палитры художники; казаки, ученые, профессиональные скандалисты, добрые и злые бандиты, снобы, бессребреники, знаменитый нищий, тративший подаяние на посещение оперы, большой пучок политических партий и один городской сумасшедший, постоянно выдвигавший свою кандидатуру на выборах… Даже какое-никакое кино в этом городе было – работал филиал Свердловской киностудии. Все это бурлило, клокотало, дружило, дралось – но так или иначе роднилось общим стремлением из штанов выпрыгнуть, но сотворить что-то необычное – то есть обычным стремлением любой здоровой творческой среды.
В начале 90-х Паша Виноградов, поэт, бывший диссидент и корректор «Красноярского комсомольца» (тогда это были титулы одного смыслового порядка) показал мне толстенный роман, называвшийся, если не ошибаюсь, «Звезда Магеллана». Роман был свеженький, только из типографии:
– Наш чувак написал, – сказал Паша. – Откуда-то с правого берега. Интересно, что такого особенного в Красноярске можно навалять про Магеллана?
В речи его чувствовался снобизм пресыщенного культурными новостями человека. Намедни, к примеру, местный астролог и гений представил роман «Гинунгагап» – прочитать его до конца вряд ли кто-нибудь смог: эта вещь потяжелее Джойса оказалась…
Кроме Астафьева, конечно, были здесь всероссийские имена. Но абсолютный центр – он. Причем не только литературный. Сюда съезжалась творческая элита со всей страны, президенты являлись, как за духовным ярлыком к великому мудрецу (Путин приезжал через полтора года его смерти – за это время протоптанный ритуальный маршрут еще не успел зарасти), а в обычной жизни все напрягали слух – кого он похвалит или поругает…
Теперь-то, конечно, понимаешь тогдашнюю разницу между Москвой и провинцией: в большом провинциальном городе было, по сути, то же, что и в столице, только поменьше размерами и числом.
Когда-то мой, ныне покойный, учитель Дмитриев, прочитав мою первую повесть, закричал: «Быстро во ВГИК! на сценарный! тебя возьмут!» С беспечностью, какая бывает только у двадцатилетних, я лишь через неделю позвонил в институт кинематографии. Мне сказали, что прием документов и конкурсных работ уже закончен, приходите через год. Беспроблемное поступление, конечно, было вилами на воде написано, но с мимолетной мечтой о Москве расстался я без сожаления, и позже не думал о ней совсем, всерьез уверяя себя, что если такие, как я, начнут уезжать из Сибири – кто же в ней останется? Я сделаю сиротой эту землю – суровую и, само собой, прекрасную. Ей Богу, так думал…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
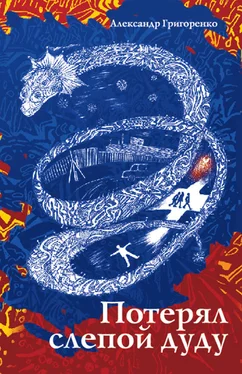
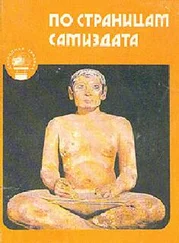

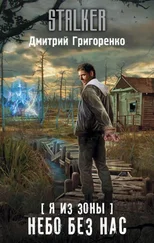
![Лоренс Сандерс - Слепой с пистолетом [Кассеты Андерсона. Слепой с пистолетом. Друзья Эдди Койла]](/books/82026/lorens-sanders-slepoj-s-pistoletom-kassety-anders-thumb.webp)