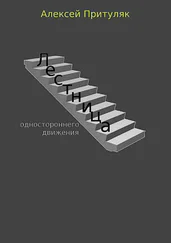«Да, — думал он, шагая, — конечно, пока нет узника, я не могу быть свободен. Камера не может пустовать — никогда… Это была бы бессмыслица какая-то, неслыханный абсурд, да, разумеется… Задержка только в недостаче узника. Ничего, ничего, господин начальник тюрьмы что-нибудь придумает, я уверен».
Словно отвечая его мыслям, загремел с той стороны засов и дверь камеры распахнулась. Внутрь ступил начальник тюрьмы — выспавшийся, подтянутый, бодрый, с неизменной добродушной улыбкой на лице.
— Ого, господин надзиратель! — весело произнёс он, довольно оглядывая узника. — Да вы, я смотрю, уже совершенно готовы к исполнению новых должностных обязанностей. Похвально-с!
Узник смутился, скромно потупился, закраснелся. А начальник тюрьмы ободряюще продолжал:
— Ну, ну, не тушуйтесь, господин надзиратель! Мне нравится ваша мобильность, ваша такая лёгкость на подъём: вчера узник, сегодня палач, завтра надзиратель, всё очень быстро, беспрекословно, с полной готовностью и самоотдачей. Вижу, господин надзиратель, вижу, что я не ошибся в вас, не прогадал: наш штат пополняет отличная, так сказать, единица, да. Уместно будет упомянуть, господин надзиратель, что оклад будет начисляться вам как раз с сегодняшнего дня.
— Спасибо, господин начальник тюрьмы!
— Можно было сказать просто: спасибо, шеф. Сейчас имел место как раз один из таких моментов — помните, я говорил вам? — которые вы должны научиться чувствовать.
— Я научусь, — порывисто ответил узник. — Я обязательно научусь!
— Постарайтесь, — кивнул начальник тюрьмы. — Это немало поспособствует вашему продвижению по службе. Кстати, а где ваш фон Лидовиц? — вдруг как бы между делом спросил он.
— Мой фон Лидовиц? — не понял надзиратель.
— «Размышления о пустоте» я имею в виду, — улыбнулся начальник тюрьмы. — Книжка такая у вас была, помните?
— Ах, это… — надзиратель подошёл к лежаку, поднял томик, который использовал вместо подушки, протянул начальнику тюрьмы.
Тот взял книгу, с задумчивой улыбкой полистал, долго и сосредоточенно разглядывал страницы пустоты, словно читал или прислушивался к немым и незримым строкам. Потом вдруг одним быстрым движением переломил книгу пополам, дёрнул, с треском разрывая корешок. Надзиратель охнул, выпучил глаза на происходящее и почему-то задрожал — то ли в жутком страхе от свершившегося у него на глазах святотатства, то ли в предчувствии того, что следующей в очереди на разрыв будет его душа.
Начальник тюрьмы меж тем быстро и уверенно разодрал книгу на несколько тетрадок и отдельных листов, скомкал, сложил их кучкой на полу, присел, достал из кармана спички. Фыркнула и пыхнула серой одна. Занялся от жёлтого пламени верхний скомканный листок. Поначалу неуверенный, огонёк быстро оживился, метнулся, заплясал, пожирая строки, сжигая мысли, превращая их в серые и синеватые завихрения удушливо-острого дыма. Узник отметил для себя, что горящие мысли великого философа воняют ничуть не лучше любого брошенного в огонь бульварного романчика. «Вот она, тщета мысли человеческой!» — подумал он.
Книга горела долго и дымно. Затхлый коридор не мог втянуть в себя через открытую дверь весь чад, поэтому надзиратель и начальник тюрьмы заливисто кашляли, зажимали рот и взмахами рук пытались хоть как-то разогнать повисшие в тусклом воздухе камеры едкие останки мыслей великого философа.
Через несколько минут на полу оставалась лишь кучка чёрных, пожухлых и свернувшихся трупов, которые ещё тлели, испуская зловоние, и которые начальник тюрьмы двумя уверенными движениями ноги растоптал, превращая в лепёшку пепла.
— Вот же странно, — улыбнулся он, затоптав последнее слабое дыхание огня. — Казалось бы, пустота, а пепел — оставляет. Ну какой пепел от пустоты, скажите на милость? А вот поди ж ты… Странно и грустно, — поник он взглядом. — Никогда не сжигайте пустоту, господин надзиратель.
— Да, — кивнул бывший узник. — Да, вы правы, это очень печально.
— Грустно, — продолжал начальник тюрьмы, словно не слыша. — С каждой сожжённой книгой что-то уходит из этого мира, что-то он теряет — незаметное, быть может, но оттого не менее важное. Так же и с каждым человеком, покидающим сей бренный мир… Да, грустно. Ведь с этого момента в нашей жизни уже никогда не будет чего-то — чего-то, может быть, важного, красивого, очень нужного, но нелепой игрой судьбы обращённого в пепел. Мы лишились его, оно невозвратно утрачено, а нам и невдомёк.
— Какие грустные вещи вы говорите, господин начальник тюрьмы! — воскликнул надзиратель. — У меня мороз по коже.
Читать дальше