Воробей дошел до своего сарая, поставил лопату и топор в угол, взглянул на часы. Время почти не двигалось — одиннадцать, в прокуратуру еще не скоро, в повестке сказано в три…
— Чего ты в темноте сидишь? — В сарай влез Мишка, подручный Воробья, включил свет. — Пожевать у нас есть? — зашарил на харчевой полке.
— Котлеты вон в целлофане… Крошку привез?
— Полтора мешка, красивая, мелкая…
— Ме-е-елкая, — передразнил Воробей. — Толку-то, мелкая: промывать труднее… А чего поздно? В музее своем дежурил?
— В музее вечером.
Мишка выдавил на котлету майонез из пакетика.
— В прокуратуру скоро поедем?..
— К трем. Один поеду, ты здесь сиди; погода путная, клиент будет.
— Ты же не услышишь один.
— Услышу. А не услышу, переспрошу.
— Как хочешь, могу и здесь.
— При чем здесь «хочешь»? Бабки ловить надо; суд судом, а деньги своим чередом. Пока вот чего: мрамор глянем еще разок. — Воробей полез на карачках в угол сарая, под верстак, где в тряпье хранились полированные мраморные доски. — Чего стоишь? Принимай…
Доски были давно перемерены и переписаны Мишкой в блокнот. Воробей сел на ведро с цементом, прикрытое фанеркой. Закурил.
— Каждая доска свою цену имеет. Самые ходовые — коелга. Вот эта, белая. Летят, как мухи. Только доставать успевай. Да их и доставать особо не надо: ворованные возить будут, прямо к сараям. В случае привезут, доска — бутылка. Больше не давай, не сбивай цену. А толкать начнем — ноль приписывай… Сечешь, как монета делается?.. Не возьмут? Еще как возьмут! И еще спросят! — Воробей вытянул из угла еще одну доску. — Газган вот — эти не покупай. С виду хороши, красивые — а крепче гранита: скарпели победитовые садятся, три буквы вырубил — и аут. Искра прям лупит… Гарик, ты его застал еще, когда я в больнице лежал… Вот здоров был клиентам мозги пудрить, без передоха… Я его и в пару за это взял, за язык. Гарик этот мрамор — газган — эфиопским выдумал. Клиента клеит, лучший товар, говорит, Эфиопии, для правительственных заказов. Клиенты-то все больше — о-о-о! — Воробей постучал себя по уху, — олухи. Им чего ни скажи — всему верят. Раз эфиопский — все. Давятся, полудурки. — Воробей сунулся было снова под верстак, но вдруг раздумал и вылез. — Там еще доски есть, да лазить далеко… Потуши-ка свет, на глаза давит.
Мишка щелкнул выключателем.
— Теперь размеры. Самый лучший — сорок на шестьдесят. Можно сорок на пятьдесят. Уже не бери — дешевка, шире — тоже плохо: в кронштейн заливать станешь — с боков мало крошки уместится. Шире шестидесяти — гони сразу. В высоту до восьмидесяти брать можно. Бывает, требуется. На много фамилий. Не глядится, правда: цветник сам — метр двадцать длиной, и эта дура, кронштейн, чуть не такой же… Еще… — Воробей потряс пальцем. — Одно запомни и другое: выпить не отказывайся никогда. Ты че? У людей горе, а тебе выпить с ними лень… Сам вот не проси, некрасиво, а помянуть нальют — не отказывайся. Это нам можно. Ни Петрович, никто еще ругать не будут. Горе разделил, по-русски… Летом одного захоранивали, нам наливают. А тут Носенко идет, из треста, заместитель управляющего. Мы стаканы прятать… Раевский сунул в штаны, а у него там дыра… Стакан пролетел, а он стоит, как обоссанный. И стакан котится… Чего, думаем, Носенко скажет. Ни слова не сказал. А в обед всем велел в контору. Когда, говорит, официально предлагают помянуть, это не возбраняется, только не слишком.
Воробей открыл портфель, достал бутылку «Буратино». Глянул на Мишку, тот уже приготовился смотреть фокус. Воробей взял горлышко бутылки в кулак, ногтем большого пальца (специально один ноготь оставил — не грыз) поддел крышечку и легко ее сколупнул. Бутылка зашипела.
— Это ж надо — «Буратино» хаваю. Кому сказать, не поверят. — Понюхал бутылочку: не скисло ли — после больницы градусов боялся даже в газировке. Сунул бутылку Мишке: — Нюхни. Ничего?
Выпил, пустую бутылку сунул в портфель.
— А если, говорит, кого увижу — по углам распивают, пеняйте на себя… Его слова, Носенки. А ты раз не пьешь — отпей для вида, а остальное, скажи, в бутылочке мне оставьте. Понял? Воробей всему научит.
Лешка не спеша переодевался в чистое.
— Ну, это, держи на всякий случай. — Он протянул руку Мишке. — Не люблю за руку, но мало ль…
— Что «мало ль»? — отвел его руку Мишка. — Ты ж не в суд, а к про-ку-ро-ру!
— Короче, Валька позвонит вечером, если что, — упрямо сказал Воробей. — Пошел я… Не боись, прорвемся!
Воробей подошел к конторе, заглянул в окно. Петрович был в кабинете, сидел за столом и ничего не делал. Воробей вошел без стука, ему можно и без стука.
Читать дальше






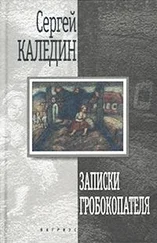

автора "Томочка". Кстати, помечен он был как "личное". Меня и тогда и сейчас это биографическое воспоминание о матери зацепило
и довольно ощутимо. Как отдельная глава (по- моему пятая) вставлена в книгу "Чёрно - белое кино".
А звать её Томочкой и только так она заставляла своё непростое окружение поскольку ненавидела своё имя Тамара. Прочтите - не пожалеете.
Вот там и упоминался процесс написания этой повести под названием "Кладбище".
Первый его литературный опус, который произвёл эффект разорвавшейся бомбы и навесил ему звание "очернителя и гробокопателя".
Ну, если вспомнить год публикации (1987), то и ничего удивительного в том нет. Ибо ИДЕОЛОГИЯ. Правда (особенно горькая правда "основанная на действительных событиях" , как сейчас модно помечать всякую хрень - строго в рамках этой самой идеологии.
Что касается самой повести (по ней снят и фильм), то прочел я в комментариях к нему замечательную фразу- "это не кладбище, это срез общества
обычных людей со своими пороками, грязью, раболепством и мерзостью...". Можно разве добавить, что описанное в повести отнюдь не потеряло
своей актуальности. Более того в нынешнем светлом капиталистическом настоящем обрело куда как масштабные и "совершенные" формы.