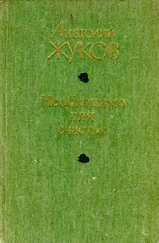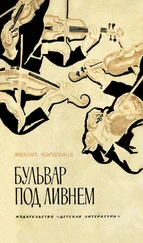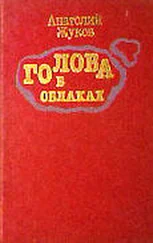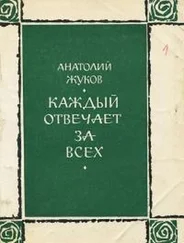То, что Майя для Светы сделала меня однокурсником — не удивляло. А вот могилка? Да нет, и тут все просто: я умер, для нее, а значит, умер и для Светы. И нужно было фактическое подтверждение для дочери. Вот и привела на какую-то чужую могилку: ребенок обязательно это запомнит и навсегда убедится в том, что действительно был отец и действительно погиб. Но уже больше никогда не водила туда Свету, чтоб у нее стерлось из памяти местонахождение той могилки.
Я неожиданно поймал себя на мысли, что я продолжаю называть Свету — Светой и думаю про ней как про Свету, и не более чем как про Свету...
Мне было невыносимо думать, что Света — не только для меня Света... Я не желал думать иначе!
Господи, как много всего сразу!
Как невыносимо много!
Я заказал еще двести граммов. Пил. Разговаривал с соседями, которые подсели за мой столик. Один из них Валик, другой Петро — так они себя назвали. Я угощал их, они — меня. Вначале говорили про политику, потом, конечно, про женщин.
— Знаешь, Александр, ничего слаще и прекраснее, чем чужие жены, я не знал. Да и нет! Они словно вулкан, который просыпается после спячки.
— Нет, я не согласен, — оппонировал Петро. — Восемнадцатки — вот цимус!
— Чепуха! Примитив! Только и знают что расставить ноги и лежать как полено. Вот замужняя — высший класс! Все умеет! А сколько желания, фантазии, страсти!
— Нет, они воблы сухие!
— Сам ты сухой и ни хрена не понимаешь в любви.
— Я не понимаю?! Да у меня баб сотни было!
— Пусть хоть тысячи, а настоящий космос любви можно познать и с одной. И замужняя женщина — именно тот космический взлет и есть.
— А-а-а, ты всегда был с приветом, — отмахнулся Петро.
— Нет, чужие жены — это класс! Как думаешь, Александр?
— Неважно, что я думаю, — тяжело ворочая языком, ответил я. — А ты сам женат?
— Конечно, — немного сбитый неожиданным вопросом, ответил Валик. — А что?
— А если твоя для кого-нибудь будет «классом»?
— Кто моя? — не понял Валик.
— Жена.
— Жена? — переспросил Валик, и его лицо вначале приобрело выражение удивленного быка, потом сменилось на безликое изображение каменной статуи, и, наконец, покраснев, он затряс головой: — Нет, моя — никогда. Уверен.
— А те мужчины, про чьих жен ты говоришь «класс», думаешь, не уверены в своих женах?
— Те козлы, лохи! — неизвестно кого, меня или себя, переубеждал Валик. — А я умею думать. Я свою жену пасу.
— Паси, паси... Только не проспи волка...
— Не просплю. Я внимательный пастух. Да и жена моя не из таких...
— Понятно, присутствующие исключаются, — глухо пробормотал я.
— Что? — не понял Валик.
— Проехали...
Пили дальше. Валик с Петром продолжали спорить про «класс» и «цимус» и подливали мне. Мою голову забивало словно ватой... потом мы куда-то шли... ехали... Я все время повторял два имени: Майя, Света... Откуда-то звучало: «Не бойся, найдем тебе бабу...».
Вата забила мои мозги окончательно. Я уже не понимал, нуждаюсь ли я во времени, и, что самое главное, нуждается ли время во мне?..
***
...Юлик лежал в гробу красного цвета, который был установлен на сцене: немного приподнят в голове и опущен в ногах, что давало возможность видеть его с любой точки зала. За ним, на черном бархате задника, висел его портрет, подсвеченный лучом пистолета. Вокруг гроба цветы — в основном гвоздики. Звучала тихая музыка. Звучала будто откуда-то с высоты, создавая впечатление непонятного всемирного объема — глухого, вакуумного...
В зале люди — застывшие, словно статуи, с тоскливыми лицами. Ни одного ярко очерченного лица, глаза — будто водяные бурболки. И я в этой безликости.
На Юлике в гробу черный костюм, белая рубашка. До груди он покрыт белым, тонким покрывалом. Голова забинтована. Лицо Юлика, между двумя белыми оттенками — покрывалом и забинтованной головой, — казалось желтовато-восковым, даже смуглым.
Я понял: забинтована Юликова голова потому, так как была пострижена и изуродована шрамами, когда в морге ему делали трепанацию. Попробовал представить, как может выглядеть теперь этот стриженый, изуродованный череп...
Его легкие, светящиеся под солнцем, волосы брюнета — уже только память, только воспоминания. Время Юлика отошло в вечность, взяв с собой все до мелочи, что ему принадлежало.
На сцене возле портала еще совсем молодой священник в черной длинной рясе, которую немного оживлял большой серебряный крест на груди, разговаривал с незнакомым мне лысым, лет сорока, мужчиной. Священник говорил, что служить поминальную панихиду он тут не может, ибо сцена, по церковным канонам, — место дьявола.
Читать дальше