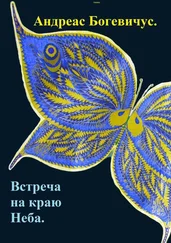В конце концов мне надоело стоять под платанами, и я ушел и по дороге заставил себя думать о давно начатом рассказе, который теперь, пользуясь негаданной свободой, намеревался закончить. Вчера я написал несколько страниц… Рассказ продвигался медленно, потому что был он о северном сиянии, которое встретилось нам однажды при полете на Мурманск. Тогда была зима, холод, а теперь я находился в тридцатиградусной жаре, и трудно было даже представить, что по курсу полета вспыхивали полотнища сияния, разноцветные и пульсирующие; они вскидывались ввысь и окатывали нас то синим, то красным светом; вновь и вновь зажигаясь, сияние, казалось, уходило к звездам. От его света на меня, помнится, повеяло ледяным холодом, всполохи заставили внутренне поежиться; подумалось, что если бы забыть о посадке в Мурманске и пролететь еще какой-нибудь час, то можно бы дотянуть до сияния, войти в него с разгона и прикоснуться к его быстротекущей жизни. Каждую секунду оно новое, другое — неуловимое… В полете от этих мыслей меня оторвал механик, влезший всем корпусом в мою тесную кабину, чтобы попросить закурить. Кажется, я ему сказал, показывая на сияние, которое как раз вспыхнуло с новой силой, что мы могли бы туда долететь. Механик взял сигарету, взглянул на меня, затем на сияние и молча выбрался из кабины, а после и вообще вышел из пилотской: он всегда курил в багажнике…
Странно, но так же, как и сияние, которое все никак не забывалось, я помнил взгляд механика, пристальный какой-то, тяжелый и сердитый, будто механик разозлился на меня, что я сказал то, о чем в самолете принято молчать. Возможно, он был и прав: есть вещи, о которых в самолете не говорят даже в шутку. Но я-то не шутил: сияние сгорало на темном небе, не вызывая удивления ни у пилотов, говоривших о прошлом разборе, ни у механика. Мне подумалось — мы привыкли даже к сиянию… Вот об этом мне и хотелось рассказать.
Придя домой, я решительно сел за стол и стал перечитывать написанное, стараясь вернуть то состояние, которое было в полете. Я вчитывался в строчки, а мне вспоминалось море, возле которого я просидел так долго, люди, оставшиеся в тени платанов; мне виделись пьяница с пластырем на щеке и двухэтажные особняки. Все это было как-то связано между собой, и подумалось, что я чего-то не досмотрел там, у кофейни, и надо бы вернуться. Ничего страшного не произошло бы, если бы пошел туда и, ничего не написав, потерял день, тем более что впереди была их добрая дюжина, пустая квартира, в которой никто не тревожил. Но я не встал из-за стола и продолжал вчитываться: знал, что не написанное сегодня уже никогда не будет написано… Так и сидел, вспоминая полет, и неожиданно почувствовал, что мне что-то мешает. Не море и не люди у платанов, что-то другое. Стало как-то тревожно, будто кто-то невидимый подсматривал за мной. Я встал из-за стола, походил по квартире, заглянул к скорпионам и снова сел… Полуденное солнце припекало основательно, но окно, перед которым я сидел, уже вошло в тень от стены дома. Легкий сквозняк шевелил серую от пыли тюлевую занавеску, где-то неподалеку тонко и отрывисто посвистывала незнакомая мне птица. Под моим окном росла пальма, ствол ее напоминал туго скрученную сигару; ночью пальма развернула еще один лист, молодой и нежный, с тонкими желобками для воды. Лист этот тянулся ко мне, на второй этаж, и был отлично виден. В трех-четырех метрах от окна стоял старый, кое-как сбитый сарайчик, в котором один из жильцов хранил мотоцикл. Стены сарайчика были увиты виноградной лозой, гроздья «изабеллы» уже почернели и от этого выглядели тяжелыми — казалось, вот-вот упадут…
Все это я видел и вчера, когда сидел за этим столом, но тогда ничто мне не мешало. Я пригляделся еще: поверх крыши сарайчика просматривался чистый, небольшой дворик, посреди которого росла старая шелковица с редкими ветками, за нею виднелся двухэтажный белый дом, напомнивший мне отчего-то тропическое бунгало. У стены дома стоял велосипед. Тонкие некрашеные деревянные стойки поддерживали просторную веранду. К ней вела светлая, тоже некрашеная деревянная лестница. В глубине веранды виднелись два высоких распахнутых окна и дверь, у стены стоял круглый желтый стол и там, у этого стола, возилась женщина. Она настирала кучу белья и теперь складывала его в красный таз, чтобы развесить. Веранда была залита солнцем, даже в глубине ее не было тени; может быть, поэтому дом и казался мне невесомым, хоть фундамент его был сложен из грубого камня…
Читать дальше
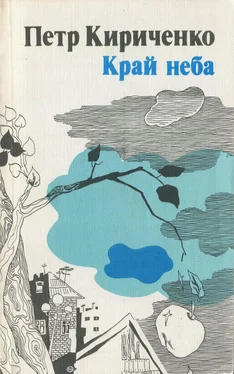
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




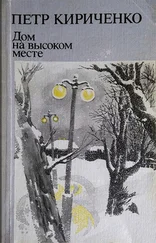
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)