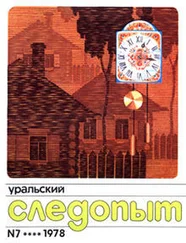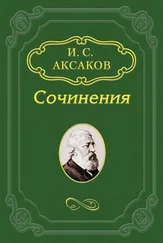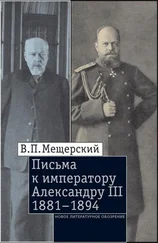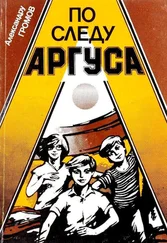Пауль Дунка словно онемел от накатившей на него теплой волны. Он опустился на колени у кровати, но уже не целовал жадно голые икры, округлые бедра, сияющую голову, мягко освещенную лампой. Он прижался лицом к ее груди, поднял глаза и впервые сказал ей слова, обращенные не только к прекрасному телу женщины, а и к человеку — к ее прошлому, к девочке и девушке, к ее страданиям, о которых он догадывался и которые вобрал теперь в себя не для того, чтобы болезненно смаковать их:
— Я люблю тебя! Я безумно люблю тебя, как не любил никогда и никого…
— Зачем меня любить? Разве нам было плохо до сих пор? Было приятно, и каждый из нас не лез в душу к другому.
— Нет, было плохо. И по моей вине ты никогда не возвращалась. Ты оставалась там, в том ужасном месте. Я держал тебя там!
— А если я не хотела возвращаться? Что ты понял из того, что происходило там? Иди ко мне. Так было приятно: эта теплая комната, защищенная от холода, мягкая постель, свет от старой лампы, купленной в Вене еще моей прабабушкой, — лампы, которая освещает меня всю, и я могу всю себя видеть и такой показаться тебе.
У нее был нежный, певучий голос. Вдруг она резко вскочила с постели и завернулась в попавшуюся под руку простыню. Сверкали лишь ее умные красивые глаза. Она воскликнула:
— Я не хочу, чтобы ты меня любил и не хочу любить никого из вас. Никого. Я была шестнадцатилетней девчонкой и росла медленно, слишком медленно. Еще не отвыкла играть в куклы. Держала их все при себе, у меня было их много. По возвращении я нашла одну-единственную с оторванной головой, которую видел и ты, когда впервые пришел ко мне. Я выбросила ее, она уже не доставляла мне никакой радости. Мне нравился наш большой темный дом, с многочисленными закоулками, где я могла прятаться и мечтать. Я пробиралась в библиотеку дедушки, он делал мне знак рукой, разрешая посидеть в кресле, пока он читает. Две огромные собаки лежали у камина и время от времени зевали, а дедушка медленно переворачивал страницы толстых книг.
Потом задумывался, положив очки на раскрытую книгу.
Там меня с особой силой преследовали эти воспоминания. Раскрытая толстая книга, красивые буквы, а на ней — очки в тонкой оправе, и пристальный взгляд дедушки, который я порой ловила на себе: «Не может быть, девочка, нет, думаю, что у тебя будет счастливая жизнь. Я уверен, у тебя будет счастливая жизнь. Я уверен».
И вдруг пришли они. Он умер в поезде, во время пересылки. Выли женщины, прижимавшие к груди младенцев, умерших от голода и жажды, от грязи, от духоты. Странно, я сидела, прижавшись к нему, и он до последнего вздоха твердил: «Не бойся, Хермина, у тебя будет очень счастливая жизнь!» Так и умер, все глуше бормоча: «Будет хорошо, не может быть иначе, должно же быть где-то добро и правда». Он был моим мертвым ребенком. Мне было нетрудно это понять — от старости он стал совсем маленьким, съежился. Умер, потому что ему не дали воды, а без воды человек умирает, тает на глазах.
А потом — удары, отмороженные ноги, покалеченные камнями, и все, что я тебе уже рассказывала. Поначалу я думала, что, рассказав, освобожусь от всего и смогу воскреснуть. Но тогда я ничего не понимала, я была голодна и мечтала только о еде, о том, чтоб поесть хоть раз досыта перед смертью! И не могла вспомнить, что такое сытость, потому что раньше никогда не догадывалась, что была сыта. И хоть разок еще отдохнуть, но об отдыхе я тоже ничего не помнила. Я только мечтала об этом, и через это прошли все, кто выжил. Выжившие возвратились, наелись, отдохнули, и все стало, как прежде, до того, как попали туда.
Мне по-своему повезло. Однажды пришел рапортфюрер и закричал: «Все, кто знает по-немецки, вперед!» Выступила вперед и я. «Только имейте в виду, — продолжал он. — Если мы поймаем вас хоть на одной ошибке или вранье, то вас освободят через трубу… » Нас осталось человек тридцать, женщин и девушек, к нам, выстроенным в ряд, подошли несколько чиновниц из центрального бюро или жен офицеров СС. Они разглядывали нас, переговаривались между собой и выбрали восьмерых. Мне, а я была одной из восьмерых, какой-то офицер сказал маленькую речь о счастье прислуживать немке, и та, которая меня выбрала, привела к себе домой, после того как я вымылась и переоделась в новую униформу.
Моя хозяйка, фрейлейн Хильда Гаст, ротенфюрер СС, машинистка в комендатуре, была немного старше меня, лет двадцати, некрасивая, плоская как доска, с длинным, тонким носом, который свисал до рта, и очень глупая, сентиментально глупая. Мне повезло. Это была не жестокая садистка-надсмотрщица, а просто чиновница, не имеющая никакого отношения к заключенным. Она только печатала на машинке списки мертвых и никогда не задумывалась над тем, что делает. Для нее это была работа — имена, факты, слова, буквы. Вначале она смотрела на меня с каким-то отвращением, без всякого сожаления, но и словно немного смущенно. Никогда в жизни она не имела служанки, а теперь у нее была рабыня, и она не знала, как с ней обращаться. «Если будешь опрятной и послушной, горя знать не будешь», — сказала она.
Читать дальше