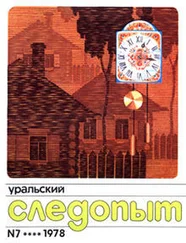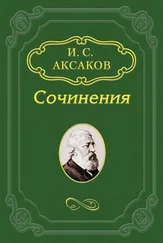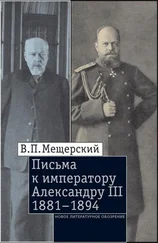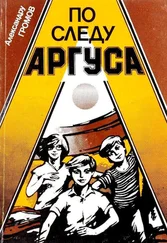Пауль Дунка поймал себя на том, что говорит шепотом:
— Мы уедем. Уедем отсюда завтра в восемь утра. Я люблю тебя так, как никого никогда не любил. Люблю тебя такой, какой ты была, какая ты есть, какая будешь!
Но он смог ее успокоить лишь много спустя, после долгих часов, и первый задремал. Он очнулся, услышав скрип дверей, и сразу понял: она хотела убежать на рассвете, не видеть его больше. Он кинулся за ней, схватил ее в объятия, раздел, несмотря на ее сопротивление, затем оба уснули.
Когда они проснулись, было одиннадцать. Господин Уорнер уехал три часа назад, на улице было тихо. Пауль Дунка приготовил кофе, принес ей в постель, а сам присел на краешек и глядел на нее.
— То, что я сказал тебе, — правда. Одна правда, единственная правда.
Хермина долго молчала. Наконец попросила:
— Расскажи мне, что было вчера.
Пауль Дунка рассказал ей все, без утайки, с самого начала — про Карлика, про его банду, о каждом в отдельности.
— Значит, из-за меня ты связался с ними?
— Может быть.
— Бедняжка, ты так же глуп, как мой дедушка, — сказала Хермина и осторожно провела рукой по его волосам.
— Я согласен, пусть меня покарают.
— Я не позволю, — ответила Хермина.
Утомленные, они заснули снова.
Самолеты редко прилетали в этот городок, и тем не менее в тот морозный зимний вечер, когда хрустально чистый воздух был вспорот гулом мотора, немногие обыватели обратили внимание на прибытие самолета, на котором прилетел с точными указаниями из Бухареста Октавиан Григореску, полномочный представитель центра.
Направляющие красные и зеленые огни вспыхнули и погасли. Пилот, покружив над слабо освещенным городом, повернул на сигнальные огни Матуса и пошел на посадку.
— Прибыли, — воскликнул военный летчик, обращаясь к своему молчаливому пассажиру. — Хорошо летели, всего полтора часа. — И указал на освещенный циферблат.
Григореску кивнул, глянул в окно кабины, увидел башни, крыши и едва освещенные фонарями улицы. Было десять минут восьмого, когда они коснулись земли на ровном широком пустыре, единственном в городе, называемом «базарным кругом», где по субботам продавали скот и изредка садились самолеты специального назначения, обычно военные самолеты союзных советских войск. Без преувеличения можно сказать, что 19 часов 10 минут стали историческим часом для этого города и всего северного округа, — часом таким же знаменательным для местных жителей, как час падения Константинополя или день открытия Америки. То есть это было столь же крупное событие, но отмечающее не сущность, не начало какого-то явления, а поворотный момент в жизни этого города.
Встречать Григореску пришли Дэнкуш, Вайс, Софронич, а в трех шагах позади стоял одинокий Матус. Ребята, которые помогали ему сигнализировать, скромно выстроились поодаль, шагах в десяти, и с любопытством разглядывали прибывшего.
Представитель Центрального комитета молча пожал руки встречающим, а потом и рыжему Матусу. Он увидел два ожидающих их джипа и обратился к Матусу, которого счел ответственным за организацию встречи:
— Позаботьтесь о пилоте, — и кивнул последнему.
— Благодарю вас, — ответил пилот, — но мне нужно возвращаться в Бухарест. Честь имею.
— Спасибо, капитан.
Все услышали уверенный, твердый голос Григореску.
Он сел в ближайший джип рядом с шофером, и машина тронулась к уездному комитету партии. Первые пять минут Григореску молча глядел в окно и не видел ничего, кроме низеньких крестьянских домиков, с окнами, освещенными керосиновыми лампами. Этот почти сплошь крестьянский квартал, рядом с «базарным кругом», не был электрифицирован. Затем пошли улицы, освещенные электрическими фонарями, редкими и бледными, а на перекрестке, напротив пожарной каланчи, он заметил первую толпу — признак событий, которые привели его сюда.
— Медленнее, — сказал он шоферу, и машина, едва двигаясь, миновала молчаливо темнеющие группы людей.
Никто не обратил особого внимания на проезжающих, хотя Дэнкуша и узнали.
Джип повернул на главную улицу, в это время пустую, и за несколько минут домчался до здания уездного комитета партии.
«Что он из себя представляет?» — думал Дэнкуш, глядя на широкие, могучие плечи Григореску (явно плечи заводского рабочего), обтянутые курткой из блестящей кожи. Фуражка была тоже кожаная.
Читать дальше