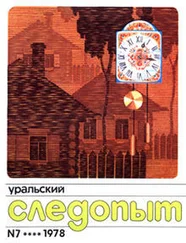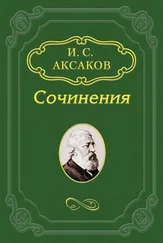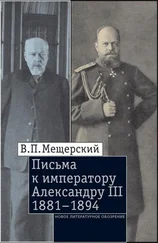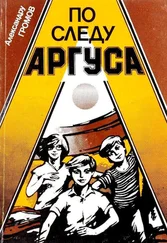Сайрус Уорнер умолк и, помолчав, добавил:
— Вот и вся история.
— Нет, это не главное. Расскажите все. Ведь у вас настоящий слушатель.
— Нет, это все. Я никому не рассказывал и нигде не писал об этом. Надеюсь, что никогда и не напишу, даже в моей будущей книге о насилии века. Я повидал расстрелы во время гражданских войн, виселицы, украшавшие города, как огромные гербы. Но там все было иначе. Смерть и истязания в полном одиночестве. Модель человечества, доведенного до младенческого состояния. Рыдания и стоны в умонепостигаемом мире… Это был бы скверный репортаж, слишком лирический. Тогда же я понял, что я отличный, великолепный журналист, но я не Достоевский. Эти вещи можно лишь вообразить себе, но не описывать. Вот и весь рассказ, больше я не скажу ни слова.
— Вы превзошли меня, сэр, — задумчиво сказал Пауль Дунка. — Вы видели целый завод, а я лишь жалкую мастерскую. Но и у меня есть преимущество. Я был не только очевидцем, я был участником. А это совсем другое переживание.
— Зачем же вы здесь?
— Без всякой цели. Но я очень рад, что познакомился с вами. Во всяком случае, мне не верится, что вы поможете этим господам снова прийти к власти. И старик знает это. Он сильный старик и не нуждается в иллюзиях. Он делает лишь то, что считает необходимым делать. Он пленник определенной системы ценностей, из которой ему не вырваться.
Сайрус Уорнер усмехнулся.
— Послушайте, — сказал он, — завтра рано утром я уезжаю на своей машине. Может быть, вы решитесь в третий раз начать жизнь — в другом месте?
— Не думаю, что смогу принять ваше предложение. Я должен быть здесь и закончить все здесь. Я должен расквитаться хотя бы со своей совестью. Остальные и не поймут, когда расплатятся.
— Как вам угодно. Я уезжаю ровно в восемь утра.
Сайрус Уорнер повернулся к другим сотрапезникам, которые слушали, не понимая, этот продолжительный разговор между журналистом и гостем.
— Ну, какого черта вы там лопочете? — недовольно буркнул доктор Влад, обращаясь к Паулю. — И по-английски ты знаешь, чертяка. — Затем яростно, как бы желая показать себя, схватил за плечо Уорнера и затараторил по-венгерски.
Уорнер засмеялся. Он понял одно лишь слово — «бомба», понял не только по звучанию, но и по выражению глубоко сидящих в орбитах глаз доктора Влада. И по движению его плеч и по тому, как тот оскалил зубы.
— Терпение, только терпение, — сказал Уорнер и снова рассмеялся.
Доктор Шулуциу заметил разочарование, охватившее его приверженцев, и решил поправить дело, подать хоть какую-нибудь надежду этим «бедным людям», за которых он был в ответе.
— Это подходящее слово, — вежливо вмешался он. — Господин Уорнер понял существующее положение дел и просит вас иметь терпение и надежду, две великие доблести.
— Не забудьте, — сказал Уорнер, пожимая руку Паулю Дунке перед тем, как уйти. — Моя машина отъезжает ровно в восемь утра, и в ней всегда найдется место для вас.
— Спасибо, но думаю, что придется отказаться. А сейчас мне тоже пора. Я должен встретиться с человеком, который прошел через многие испытания не как свидетель или участник, а как жертва.
Он пожал руку доктору Шулуциу, которому предстояло еще укрепить веру и терпение собравшихся, и ушел, отвесив общий поклон.
Наступила ночь, но улицы города, по которым шел Пауль к дому Хермины, были еще оживлены, как никогда раньше, потому что все знали — банда Карлика свернула свою деятельность. В «Короне» ставни были закрыты, никто не отмечал там успешное завершение афер. А в штабе коммунистической партии горели все огни, народ все время входил и выходил из здания.
Пауль Дунка бесстрастно фиксировал все это, не чувствуя ни гнева, ни отчаяния, занятый лишь мыслью, которая пришла ему в голову во время беседы с Уорнером. Ему больше нечего делать. Но ему дано право стать карающим мечом правосудия. Ему остается лишь искупить спою вину.
Он вошел во двор Хермины, открыл дверь своим ключом и застал ее в привычном положении — ждущей его в постели. Ее белое тело освещала большая лампа с зеленым абажуром. Он замешкался на пороге, охваченный странной ревнивой жаждой совершенного и полного обладания, которое оставалось всегда недостижимым. Он не хотел уже просто владеть и не хотел, чтобы им владели, но хотел быть ни собственником, ни собственностью.
Хермина весь день провела дома и ничего не слышала о случившемся. Когда Мэркуца, ее служанка, пыталась сообщить ей что-то, она не слушала. Она не жила, а продолжала, как и в лагере, только существовать. Лишь теперь, когда она увидела Пауля, ее слегка отрешенный иронический взгляд как-то погас, она испугалась. «Опять от меня чего-то хотят! Почему не оставят меня в покое? Чего еще хотят, все им мало?»
Читать дальше