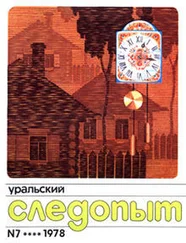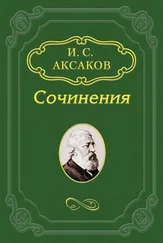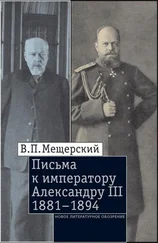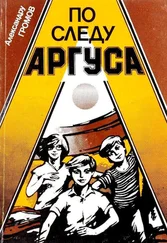Остальные ответили на приветствие вошедшего лишь кивком головы. Для Андерко, который в делах не был слишком щепетилен, Пауль Дунка был наглядным примером того, до какой степени может человек опуститься (такая возможность угрожала и ему), но все же он презирал Дунку за глупость и безумство, выставленное напоказ. «Бесстыжий!» — подумал он о нем.
Сайрус Уорнер на какой-то миг решил, что доктор Шулуциу возымел неожиданное намерение пригласить к себе лидера коммунистов. Для него, как журналиста, это было бы удачей. Но тут же сообразил, что еще раз ошибся, так как доктор Киндриш вдруг обнял Пауля и расцеловал его в обе щеки.
— Ах, черт тебя побери! — сказал он.
— Господня Уорнер, это Пауль Дунка, сын моего старого друга, — услышал журналист голос доктора Шулуциу.
Прежняя атмосфера была нарушена, присутствующие были явно не в своей тарелке, политическая беседа, скучнейшая политическая беседа, не могла продолжаться. Вновь прибывший принес с собой что-то иное, чего Уорнер не встречал прежде. Он видел защитников старого режима, вступавших в союз с грубыми солдафонами, с кровавыми фанатиками, но здесь было не то.
— Кто этот господин? — спросил он у профессора Пушкариу.
— Это печальная история, очень печальная, — был ответ.
— И все же? — настаивал Уорнер.
— Он сообщник того преступника и бандита, из-за которого вспыхнули беспорядки. Он адвокат и советник бандита, хотя, как вы видите, человек не рядовой. Сын бывшего министра, нашего друга. Печальная история.
Сайрус Уорнер пристально посмотрел на Пауля. Стало быть, этот странный человек — гангстер?! Он уже видел, и не раз, людей «благородного происхождения», даже принцев крови, превратившихся в международных жуликов, ворующих драгоценности, ставших шулерами в крупных казино, фальшивомонетчиками, вроде принца Фердинанда и графа Палермского, потомков Людовика XVI. Или принца Колонна, похитителя произведений искусств. Но все они выглядели иначе. Никто не имеет таких изысканных манер, как падший аристократ — вор или убийца. Однако у тех глаза бывали потухшими, невыразительными или полными пресыщенного высокомерия.
Они носили маску, не обнажали душу. Здесь же речь шла о другом. Сайрус Уорнер совсем оживился.
— И кем же он стал? — шепотом спросил он профессора Пушкариу.
Тот пожал плечами.
— Трудно сказать. Был порядочным человеком и вдруг, всего год назад, потерял всякий стыд и совесть.
— О! — воскликнул Уорнер, — год назад? Значит, за последний год?! Может быть, хотел набрать денег и скрыться?
— Он мог бы это сделать и иначе…
Сайрус Уорнер покачал головой. Сделать иначе… В его возбужденной памяти снова зазвучали осколки разбитой японской вазы из далекого детства, и крик его матери, и ее тихое возвращение из санатория, и желание уснуть насовсем, приняв большую дозу снотворного. Он напрягся, как струна, снова оказавшись во власти своих противоречивых настроений.
— Вот почему мы нуждаемся в реформах, — добавил профессор Пушкариу, верный своей навязчивой идее.
Пауль Дунка понял, что речь идет о нем, и подошел к Уорнеру.
— Меня позвали сюда затем, чтобы я пояснил вам ситуацию изнутри. Я могу это сделать, если вам действительно интересно знать…
— Об этих… — сказал Сайрус Уорнер. Он не решался выговорить слово.
— Гангстерах? Разумеется. До сего дня я был одним из них. До сегодняшнего утра, когда стал свидетелем убийства невинного человека.
— Человека на вокзале? Того тихого? — спросил Уорнер.
— Нет. Тот стал случайной жертвой. По ошибке. Я о другом, убитом умышленно, обвиненном в том, что он совершил преступление, которого он не совершал. Убитого полицейским комиссаром, одним из наших друзей.
Сайрус Уорнер молчал. Его не занимали эти банальные убийства, его интересовал сам Пауль — как он попал к гангстерам, как и почему содействовал им, почему отошел от них? Но он не знал, как об этом спросить. Легче было начать с конца, так он и поступил.
— Вы отошли от них, чтоб не делить с ними ответственности? — спросил он.
— О нет. Ни в коем случае. Я изжил свой эксперимент.
— Эксперимент?
— Да. Опыт бесчеловечности, грубой свободы. Ее не существует.
Сайрус Уорнер кивнул. Он давно знал, что не существует внезапного освобождения от всех и всяческих норм. Он лично никогда не уповал на это, потому что знал, что насилие, отметая одни нормы, возводит иные, куда более свирепые и непереносимые. Потому он лишь касался стихии, оставаясь наблюдателем, завороженным тем, что видел.
Читать дальше