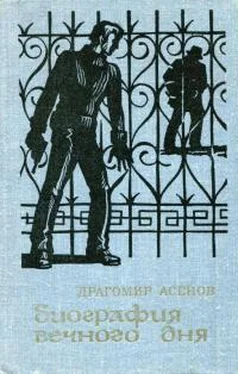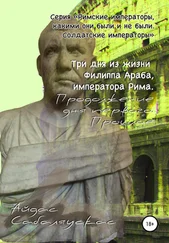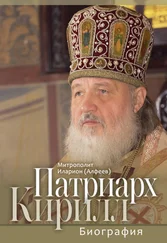Елена думает обо всем этом, стиснув зубы, убежденная, что не вправе хоть как-нибудь обнаружить свои переживания. Ее все равно никто не поймет, мало того — никто не станет оправдывать! И ей так хочется, чтобы все, чем была полна минувшая ночь, оказалось сном и чтобы ей проснуться чистой и жаждущей света, как она просыпалась в те незабываемые дни заточения в конце августа, когда с каждой весточкой, приходившей извне, вырисовывалась радостная и желанная развязка, а за решеткой был весь мир — и родная семья, и Болгария, и огненные фронты на востоке и на западе, которые приближались, приближались и приближались, чтобы принести освобождение. Как это ни странно, те дни могут оказаться самыми счастливыми: надзиратели подобрели и заискивали перед политическими, кормить стали сытней, из дому приносили передачи, каналы связи работали безотказно, никакого особого надзора и контроля, а ты — простая узница, всеми любимая, покровительствуемая более опытными и более «видными», — могла целыми днями «нежиться» на нарах и читать стихи, даже любовные, хотя твой интерес к стихам подчас вызывал снисходительные усмешки. (Ничего не поделаешь, в эти революционные времена без лирики молодежи тоже не обойтись!) А когда выводили на прогулку «по кругу», твои подружки по университету, разбросанные по другим камерам, встречали тебя с восторгом одним-единственным словом, которое казалось горячей их объятий: «Скоро!»
Часы, начавшиеся после того, как были взломаны тюремные двери, чередуются в ее воображении, словно кадры киноленты — кухня, где ее приютили добрые люди, убежище на винограднике, потом паровоз, но особенно врезался в ее сознание возглас: «Живо, живо!» — все его повторяли, кто тогда был возле нее. Он как-то стирал с ее эмоциональной памяти многое, стер и подробности тех часов. Но какое сильное впечатление произвел на нее Николай! Сперва она изумилась, что встретить ее послали какого-то мальчишку — этот мальчишка оказался умнее, самостоятельнее и храбрее, чем можно было ожидать; в эту ночь — пока они устраивали засады и преследовали Крачунова по темным улицам и перекресткам — она полюбила его как брата.
Славные тюремные дни конца августа! Елена морщится, ощутив во рту терпкий вкус лжи. А не в эти ли самые дни исчезла Веса, ее соседка по нарам? Они подружились в студеные ночи, когда прижимались друг к дружке, чтобы было теплее, потому что под убогой дерюгой нельзя было согреться в камере, где сырость прошибала до костей. Ее называли Молчаливой, Недотрогой, Дикаркой, дразнили и распекали за чрезмерную замкнутость, но Елена знала о ней почти все: о родителях (они были учителями), подчинивших себя делу борьбы еще во времена Лейпцигского процесса; о ее сестре, вышедшей за офицера в Ломе, который пропил все свое состояние и в конце концов повесился, оставив ее без крова и безо всяких средств, с какой-то неизлечимой срамной болезнью; и о том, как она увлеклась одним фабричным техником, с которым вместе работали до ее ареста, — он сбежал к партизанам, а тут пронесся слух, что он жив и здоров, хотя не раз принимал участие в операциях и боевых действиях. Елене были известны даже самые сокровенные ее тайны, о чем, быть может, никто, кроме нее, не знал, — о глумлениях Медведя и его подручных в ночь после объявления приговора суда. Так как Весу должны были из полиции перевести в тюрьму, ее вещи связали в узел, а ей под вечер было разрешено сбегать к колонке во дворе и умыться. Но когда уже совсем стемнело, двое полицейских повели ее к следователям, чтобы «уточнить формальности» по передаче. Чем это кончилось, что с нею там вытворяли — Елена узнала из бесконечно длинной и беспощадно откровенной исповеди, обрушившейся на нее, словно скала; Весу толкнул на это откровение возмутивший ее обыск в камере, когда двое полицейских в поисках запрещенных материалов и писем заставили их обеих раздеться догола. Девушка рассказала о своих злоключениях, не утаив ни одного мерзкого издевательства — может быть, она испытывала потребность поделиться с кем-нибудь, чтобы стряхнуть с себя все нечистое, как стряхивают клеща или пиявку, — но Елена плакала всю ночь напролет, молча, глухо, ожесточенно. В ее глазах сменялись одна за другой картины жестоких издевательств, она видела их с потрясающей отчетливостью, как будто все пережила сама. И в центре каждой картины, как в фокусе, торчал Сребров, его-то она прекрасно себе представляла — здоровенный, набычившийся, на скулах играют желваки… Что стало с Весой в конце августа (в те «славные» тюремные дни), зачем ее выволокли из камеры и обратно не вернули, действительно ли ее убили, как рассказывают, при инсценированной попытке к бегству, когда возили куда-то, чтоб она опознала труп расстрелянного подпольщика? И как бы она реагировала сейчас, если бы на ее исповедь Елена ответила своей?
Читать дальше