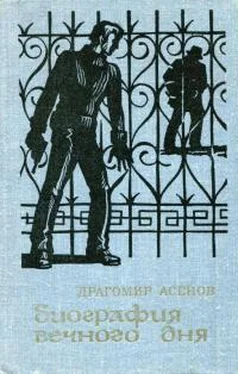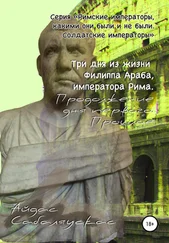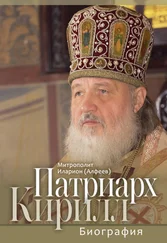Полицейские молчат, но лица у них расслабляются, напряжение мало-помалу спадает.
— Одному дежурить у входа, одному — у телефона, связь не должна прерываться. Все считаются мобилизованными. Никаких самовольных отлучек! Ясно?
— Так точно!
— Калудов, следуйте за мной. Я должен осмотреть помещение — от подвала до чердака.
Косматый ефрейтор важно вышагивает рядом с Николаем, настроен он весело — перемены, очевидно, ему по душе, по крайней мере ничего плохого они ему не сулят, хотя в его усердии есть что-то комичное.
— А где оружие сбежавших? — деловито справляется Николай.
Калудов охотно отвечает, как бы рассчитывая на похвалу:
— Оно смазано и хранится в пирамидах.
— Изъять оружие у тех, что хотят уволиться.
— Слушаюсь.
— Пирамиды запираются?
— Можно запереть.
— Заприте, а ключ отдайте мне.
Поначалу они спускаются в подвал. Здесь три помещения: в одном хранятся дрова и уголь, другое когда-то служило прачечной — вдоль его стен тянутся бетонные желоба (значит, и этот участок размещен в конфискованном частном доме), а в третьем содержались арестованные — там очень темно, на окнах железные решетки.
На первом этаже также насчитывается три помещения: кабинет начальника, канцелярия, где стоит запах пота и стряпни, и оружейная комната с пирамидами, а в длинных комнатах второго этажа — спальни с двухъярусными деревянными нарами.
— Вот и все! — говорит Калудов.
Но Николай указывает на узкую лесенку в конце коридора.
— А чердак?
— Его столько лет не приводили в порядок, там, наверно, сплошная паутина и грязь.
— Ничего, давайте проверим!
Они поднимаются по узкой скрипучей лестнице. И вдруг замирают: лаз на чердак открыт. Николай достает пистолет и повелительно кивает ефрейтору:
— Ступайте вперед!
Калудова прошибает пот, он с опаской идет дальше, погружается во мрак и тут же шарахается обратно, сбивчиво лопочет:
— Там… В глубине… А мы-то думали, что он сбежал в Пазарджикскую округу! Все грозился собрать народ в лесу, пойти против вас, против коммунистов…
— В чем дело? — протискивается мимо него Николай.
И обнаруживает повешенного: в сумрачном свете, идущем от слухового окна, его тело кажется огромным и несоразмерным, один сапог сполз с ноги, сдвинув на ступню шерстяной носок, и она стала похожей на копыто.
— Велите снять, — командует Николай, мучительно глотнув. — И как стемнеет — похоронить, да смотрите, чтоб никакого шума, без всякой суматохи… Почему он повесился?
Ефрейтор пожимает плечами, он так напуган, что у него зуб на зуб не попадает.
— Приспешник Крачунова…
— Участвовал в убийствах?
— Иной раз его звали туда, в Общественную безопасность… Среди ночи за ним приходили. Возвращался пьяный в дым и осатанелый. Близким его сообщить?
— Нет. А вы мне обо всем этом напишите, напишите все, что вам известно про него. В дополнение к тому, что я велел сделать раньше…
— Слушаюсь!
Николай спускается в кабинет начальника, закрывает за собой дверь и обессиленно прислоняется к стене. У него так же стучат зубы, как только что у Калудова. «Не знаю, действительно ли это самый великий день в моей жизни, — думает он, стараясь остановить дрожь, — но в том, что он самый безумный, сомневаться не приходится!»
Елена удручена и озадачена. Удручена своими переживаниями — стоит ли так принимать к сердцу смерть какого-то изверга? Убить чудовище — разве это не акт гражданской доблести? И потом, с какой стати она должна терзаться, изводить себя, если весть о его убийстве вызвала буйную радость у всех? А озадачена она поведением матери — чем объяснить ее непреклонность, ее жгучую жажду мести? В речах матери не было ни малейшей попытки успокоить ее, ни капельки сострадания — ни к дочери, ни к жертве. Она была готова не задумываясь, не колеблясь сделать то же самое как нечто вполне естественное. Впрочем, многие не задумываясь, без всяких колебаний сделали бы то же самое! Почему же так тяжело на душе, будто лежит в груди какой-то камень? Может, все казалось бы ей проще и естественней, если бы она убила его во время перестрелки, а не в тот момент, когда он бежал, как вспугнутая дичь? Елена припоминает его пиджак, выглядывавший из-под туристской куртки, ветхий, потертый. Сребров переоделся — он надеялся сойти за бедняка, чтобы никто его не заметил в общем хаосе, это ясно, однако даже эта искусственная бедность произвела на нее впечатление, тронула ее. Господи, каждый дрожит и борется за свою жизнь, каждый пытается умилостивить судьбу!
Читать дальше