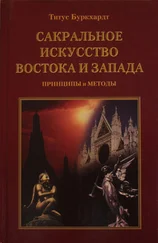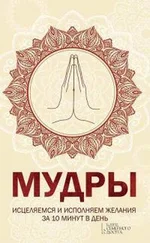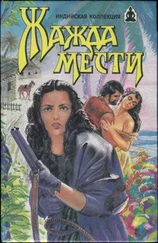Теодореску быстро шел, опустив голову, словно не замечая своего спутника. Это заставило Суслэнеску иронически улыбнуться: в конце концов Джеордже ничем особенно не отличается от него, и даже удивительно, что некоторое время (правда, очень недолго) он так прислушивался к его мнению.
— Ну, как вас принял Гэврилэ? — заговорил Суслэнеску. — Не натравил на вас своих сыновей, как грозился?
— Как видите, нет, — тихо ответил Джеордже. — Гэврилэ очень… — хотел было он высказать свою мысль, но, не найдя подходящего слова, пожал плечами.
— Очень-то очень, да сладить с ним тяжело. Это нетрудно понять — Гэврилэ в плену у репутации, которую приобрел на селе прежде всего среди таких же, как он, зажиточных крестьян. Мало кто вырывается из такого плена, и нелегко это дается. Надеюсь, вы на меня не в обиде?
— Нет, — коротко ответил Джеордже.
— Это точно? Хотя, раз сами говорите, очевидно, так. Однако, если быть последовательным по отношению к самому себе и своей «окончательной позиции», то вам следовало бы ненавидеть меня и даже стремиться уничтожить.
Вызывающий тон Суслэнеску и особенно намек на сказанное им однажды в воскресенье неприятно подействовали на Джеордже. Он остановился и повернулся к своему спутнику. Суслэнеску криво улыбнулся: здесь, в деревне, люди не умеют думать на ходу. Стоит начать серьезный разговор, и они останавливаются как вкопанные.
— Мы не хотим никого уничтожать.
— Опять это «мы». Сколько нам приходится помучиться, прежде чем удастся спрятаться за этим «мы» и пугать им других.
— Я не собираюсь вас пугать.
— Вы так уверены? Если бы вы думали, как я, то не имели бы права пугать и ненавидеть меня. Но вы человек подневольный.
Суслэнеску с удовольствием слушал себя и радовался волнению, беспокойству, которое, как он чувствовал, пробуждали в собеседнике его слова. Джеордже в самом деле начинал выходить из себя. Ему была известна эта провокационная манера начинать разговор, когда хочется излить на другого свою собственную досаду или заботу.
— Подневольный, — тихо повторил Суслэнеску и, закинув голову, стал разглядывать гонтовую крышу какого-то дома. — Странно, — продолжал он, — как слабы бывают те, кто готов отдать все за личную свободу, и как спешат люди ее потерять. Разница лишь в том, что некоторые нуждаются для этого в веских аргументах и потрясениях. Это утверждает их в чувстве собственного достоинства. Вам, например, чтобы уступить, потребовалась война, плен, и особенно разговоры с этим русским.
— Я не уступал… Я понял. Это совсем другое.
— Можете называть как угодно. Я хотел бы… я хотел бы спросить вас, какого вы обо мне мнения? Но только правду.
— Никакого, — резко ответил Джеордже. — Мне сейчас нет времени заниматься подобными вопросами.
— Вы обязаны заниматься людским счастьем, не так ли? — с раздражением продолжал обиженный Суслэнеску. — По горло заняты разделом земли? Я скажу вам одну вещь: если бы барон был настоящим политическим деятелем, он сам отдал бы свое имение и спутал бы этим все ваши расчеты. Крестьянам совершенно безразлично, кто им даст землю, а вас они не знают и не понимают.
Теодореску закурил сигарету.
— Вы считаете себя марксистом, Суслэнеску, а занимаетесь софистикой. Знаете ли вы, хотя, скорее всего, не знаете, что все дело здесь в материальных отношениях, которые необходимо изменить. Сознание людей изменится позднее.
— Как, вас беспокоит «сознание»? — вдруг рассмеялся Суслэнеску, надеясь, что Джеордже не твердо уверен в себе. — Скажите, какой товар! Никак не поддается! И как легко вы разрешаете эту дилемму. Преобразования в сознании наступят впоследствии. Позвольте мне поставить перед вами один вопрос из этой области.
— Прошу вас. Я попытаюсь…
— Вопрос в следующем: и вы и Митру — коммунисты, конечно, с соответствующей качественной разницей. У вас есть земля, у него нет. Чтобы не сдохнуть с голоду, он вынужден обрабатывать вашу землю. Что я говорю? Вынужден? Счастлив! Это для него спасение. Из теории вам прекрасно известно, что вы его эксплуатируете… Прибавочная стоимость, и так далее… Для вас, как человека, свободно примкнувшего к партии, это безнравственно. Ведь вся ваша деятельность основывается на догме уничтожения эксплуатации… Как же вы миритесь с таким противоречием? Причем не этическим, оно мне безразлично, а с другим — с тем, что безнравственная эксплуатация послужила спасением Митру? Эксплуатация! Я могу позволить себе по-всякому истолковывать этот термин, но революция делает понятия взрывчатыми и опасными в обращении, как динамит. Понятия убивают людей, как хищники. Ну как? Мне кажется, что я изложил вопрос достаточно ясно и почти в художественной форме. Как вы находите?
Читать дальше
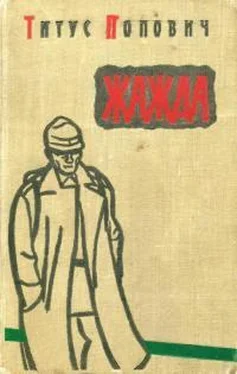

![Брайан Ламли - Титус Кроу [сборник]](/books/27192/brajan-lamli-titus-krou-sbornik-thumb.webp)
![Мервин Пик - Титус Гроан [liters]](/books/32928/mervin-pik-titus-groan-liters-thumb.webp)