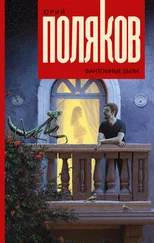— Как это так — запекла? — обалдел я.
— А как хлеб запекают! Истопила печь, вымела угли с золой да и в под меня всю запихнула.
— Куда-а?
— В печку.
— Я думал, так только в сказках бывает. Разве человек в печку влезет?
— Эге! Еще и место останется. Мылись-то раньше в печи. Это тебе не ванна! Смоешь золу — и как заново родился!
Потом знахарка отколупала с тела хлебную корочку, завязала в тряпицу, велела отнести на кладбище и зарыть, а бабушке дала сладкий травяной отвар, после которого она беспробудно спала два дня, и когда встала, жар прошел, рука не болела, только два пальца скрючились навсегда.
— Но зато я с того света вернулась!
— Ну, это понятно: мне гайморит тоже в поликлинике теплом лечили, — согласился я. — А вот зачем корку на кладбище закапывать?
— Чтобы смерть обмануть... Внучек, ты мне двойку не ставь, я буду стараться!
— Хорошо, так и быть — тройка с минусом.
— Поставь старой дуре тройку с плюсом! — приказала тетя Клава, когда бабушка снова метнулась на кухню. — Жалко тебе, что ли?
— Не могу. Оценка должна соответствовать знаниям, — твердо ответил я, в точности как Ольга Владимировна.
Но потом у «первоклассницы» резко испортилось зрение, в глазах замелькали мушки. Одна, крупная, как слепень, норовила усесться как раз на те буквы, которые нужно было прочитать. И стало не до учебы.
...Я положил тетрадку на этажерку, глянул на ходики, обомлел и вскочил, чтобы бежать в парикмахерскую, но тут в комнату влетела со скворчащей сковородкой бабушка Аня: масло в чугуне еще пузырилось, чуть шевеля ноздреватые ломти жареного хлеба, искрящегося сахарной посыпью.
— На-кась, только не обварись! Присядь — подавишься!
— Я опаздываю!
— Стой, я тебе с собой заверну.
...Обжигая язык хрустящим сладким хлебом с молочной мякотью внутри, я прыгал через ступеньку, понимая, что могу безнадежно опоздать и тогда очередь придется занимать заново. Ногой открыв дверь, я выскочил на улицу и в ужасе застыл: на старушечьей лавочке у подъезда как ни в чем не бывало сидели давешние хулиганы. «Морячок» так же крутил в пальцах финку, а «второгодник» наматывал на кулак ремень. И снова вокруг ни души: хоть бы кто вышел прогуляться... Нет, работает страна, план дает, коммунизм строит, а железнозубый участковый Антонов на своем мотоцикле ищет преступность в другом месте.
— Ну, как там бабушка? — ласково спросил Корень.
— Хорошо... — давясь хлебом, прохрипел я.
— Прожуй! — участливо посоветовал Серый. — А что это у тебя там? — Он кивнул на газетный сверток, промокший масляными пятнами.
— Ситник жареный.
— На молоке?
— Угу.
— С сахаром?
— Угу.
— Оставишь!
— Присядь, внучек! Разговор есть! — усмехнулся «морячок», подвинулся, освобождая для меня место, и ткнул в лавку финкой, чтобы я сел между ними.
— Я в парик-кмахерскую оп-паздываю...
— Не волнуйся, американец! В морге тебя подстригут!
29. Как меня оболванили
В парикмахерскую я все-таки успел, хотя очередь свою чуть не пропустил, вбежав в зал в тот самый момент, когда потный папаша, занимавший за мной, пытался оторвать от коня «вождя краснокожих», но тот намертво вцепился в лошадиную шею.
— Сынок, пойдем, кресло освободилось! Ну, пожалуйста!
— Не-ет! — отвечал парень утробным рыком.
— Мама сейчас из магазина придет и тебя налупит!
— Тебя она налупит!
Общественность наблюдала за этой неравной схваткой с молчаливым интересом, взрослые явно сочувствовали несчастному отцу, а дети смотрели с пугливым восхищением, не веря, что можно вот так роскошно изгаляться над родителем. Немолодая парикмахерша в белом, как у медсестры, халате стояла у входа в зал. Поджав густые лиловые губы, она нетерпеливо похлопывала узкой металлической расческой по ладони. На голове у нее возвышалось затейливое черноволосое сооружение, которое Лида называет халой. Это такая плетеная булка. Наконец парикмахерша не выдержала:
— Гражданин, задерживаете обслуживание! Люди сидят ждут, и у меня план, между прочим, горит. Или вы со своим собственным ребенком справиться не можете?
— Не могу!
— Тогда извините-подвиньтесь! Чья следующая очередь?
— Моя!
Народ с удивлением посмотрел на меня, мол, а это еще кто такой? В глазах общественности я выглядел самозванцем, нагло лезущим туда, где не стоял, — а это для советского человека явление недопустимое. Понять их можно: они пришли в парикмахерскую, когда я уже умчался к бабушке, и не подозревают, что я честно занимал за мамашей с самосвалом.
Читать дальше