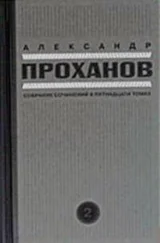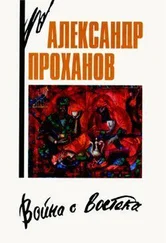Статья натравливала на Куравлёва общественное мнение. Была доносом, сулила арест. Должна была сломить Куравлёва, запугать, лишить воли. Но вчера Бондарев назвал его солдатом. Он и был солдат разгромленной армии, которая сражалась в окружении.
Куравлёв распорядился достать плёнку, сделанную в кабинете Бакланова в момент интервью. Поместил в газету все кадры, на которых он с Баклановым беседуют, взмахивают руками, что-то бурно, дружески обсуждают. Дал всему этому заголовок: “Бакланов Космический”. Враг, напечатавший донос, был посрамлён. Арестованный Бакланов оставался близким Куравлёву человеком, был великим советским государственником.
Куравлёв просматривать прессу. Была предсказуема статья Натальи Петровой, кипящая ненавистью к Куравлёву. Но удивила статья Марка Святогорова. Тот уверял, что давно замечал за Куравлёвым ненависть к демократии, свободе, увлечение такими фигурами, как Сталин. И эти черты очень хорошо разглядел в Куравлёве Андрей Моисеевич Радковский, с которым согласна писательская общественность “Аэропорта”.
Ещё больше поразила Куравлёва статья Сыроедова, этого опального редактора “Литературки”, который направлял Куравлёва в Афганистан. Об Афганистане шла речь в статье. О кровожадных сценах, питающих вдохновение автора. О любовании смертями, что говорит о некрофильских наклонностях. О милитаристском духе, с которым так боролся Сыроедов, редактируя репортажи Куравлёва.
Неужели так велик был страх Сыроедова перед победителями, так стремился он отрешиться от своего коммунистического прошлого, что решил кинуть камень в Куравлёва, чтобы снискать благосклонность победителей? Чтобы те приняли его в свой круг и, быть может, вернули должность?
Наконец, верхом вероломства и низости показалась статья Фаддея Гуськова, говорившего о Куравлёве, как о слабом писателе, желающем скомпенсировать свои литературные неудачи проповедью путча и насилия. Куравлёв не понимал, что двигало Гуськовым, близким товарищем, другом, вступившим в партию, чтобы бороться с “перестройкой”. Какие глухие углы таились в его душе? Как велико было его страдание, если он пошёл на низость и включился в общую травлю? Куравлёв был угнетён, размышлял о тайном подполье, что темнеет в каждой душе.
В кабинете появилась съёмочная группа Центрального телевидения. Её возглавлял телеведущий Молчанов, тот, что до этого вёл программу “После полуночи”. Он приглашал в программу представителей белой эмиграции, отпрысков княжеских родов, потомков тех, кто покинул Россию на “философском пароходе”. Он усвоил, как ему казалось, аристократические манеры, особую паточную любезность, особый льстивый тон, которым извинялся перед отпрысками именитых родов за те зверства, что учинили большевики с белой эмиграций. У него были сдержанные отрепетированные жесты. Он носил смокинг с бабочкой, излучал изысканность салонов. Теперь же ворвался в кабинет Куравлёва, облачённый в американский камуфляж. На нем был капроновый пояс, какой носят американские пехотинцы. На ногах — грубые бутсы с толстенными подошвами. Он демонстрировал дух военного времени. Оставил свой салон, чтобы сражаться за демократию.
Оператор навёл камеру на Куравлёва, а Молчанов с грубоватой наглостью репортёра спросил:
— Как вы считаете, убийство трёх молодых людей, учинённое ГКЧП, является преступлением?
— Если смерть трёх людей спасает жизнь миллионов, то она оправдана, — Куравлёва слепила подсветка телекамеры.
— Хорошо. А не кажется ли вам, что вы вашей позицией предаёте общечеловеческие ценности и ценности свободы?
— Будь проклята ваша свобода! Слышите? Будь она проклята! — Куравлёв испытал мгновенную ненависть к мясистому лицу Молчанова, к его бутафорскому камуфляжу, ко лживости всего, чем тот занимался, с бабочкой на кружевной рубахе или с капроновым поясом американского пехотинца.
— Спасибо, — и Молчанов, громыхая бутсами, выбежал из кабинета. Поспешил в Останкино, чтобы добытый уникальный сюжет попал в вечерние новости.
Вчера, после визита к Бакланову, после жуткой смерти Кручины, выброшенного из окна на его глазах, после убийства Пуго, после прощального разговора с Макавиным во время сухой грозы, после осады Союза писателей на Комсомольском — после всего этого Куравлёв был так обессилен, что, узнав о гибели Светланы, не пустил в себя это известие. Не дал ему распуститься в нестерпимую боль. Оставил эту боль на потом.
Читать дальше