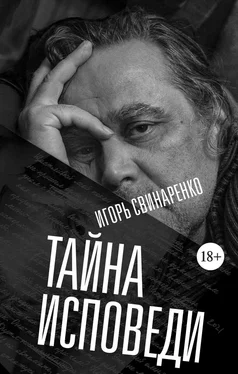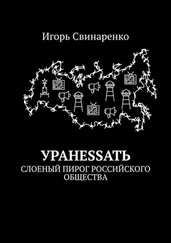— Шо, шо такое? Шо случилось? Товарищ комиссар!
А тот не может ничего сказать. Он в ступоре. Дед забрал у начальника ствол и уложил стрелка досыпать. И вот на выпускном вечере комиссар, на этот раз не в ступоре, а просто пьяный, как нормальный человек — всё объяснил своему бывшему ученику, уже ж не было между ними социальной пропасти:
— А… Это было вот почему. Я ж служил в губчека раньше, так мне там по работе пришлось расстрелять 518 человек. И ночью вот эти дела на меня находят: мертвецы появляются, стоят передо мной… Страшно! Не высыпаешься вдобавок ко всему. И людям беспокойство: отак вскакиваешь — и ну пулять из нагана куда попало. Понятно, что стал я неспособен к той службе. Вот меня и перевели в школу. Так что теперь я — комиссар… На этой должности тукать не надо, так что — справляюсь, как видишь…
Дед так понял, что потерялся чекист, получил травму на службе, и ему помогли, дали работу полегче. Главное — вовремя человеку помочь, успеть!
(Тут сразу вспоминается Прилепин, он же замполит… Хвастал, что много украинцев убил. И после тоже перешел на легкую работу — из батальона в театр.) А вот с начальником губчека Журбой такой номер не прошел. Он тоже так иногда тукал. Когда люди чужие, их не жалко. Но не все ж чужие! Как-то в ЧК привезли очередного арестанта — это был матрос, из эсеров. Ну, допрос, проверка документов, не сразу ж расстреливать, не 1937 год, все-таки законность, пусть даже и революционная. А у матроса фамилия — Журба.
— Ты случайно не родня нашему начальнику?
Оказалось — брат! Доложили, конечно. Командир решил показать подчиненным пример революционной сознательности и объективности. И сам пошел к смертнику в камеру:
— Ну что, братец, не послушал меня? Не пошел к нам? Так что удивляться нечему. Что ж, пойдем теперь…
Пришли братья в подвал, и обоим понятно, зачем: один же — большевик, чекист, другой — эсер, чего тут рассуждать.
Это была такая типа духовность — чекист лично повел на расстрел родного брата, а ведь мог эту грязную работу свалить на подчиненных.
И вот стоят они в подвале… Матрос огляделся, видит — на полу валяется пустая бутылка! (Я всегда напивался, проведя пару-тройку часов в тюрьме, как переводчик — тяжело там, удар по психике. А в ЧК же были не только камеры, но и — расстрельный подвал. Стрезва, небось, тяжело туда каждый Божий день спускаться на работу. Одного убил, другого, третьего — как же после такого не нажраться, всё логично. — ИС) Так моряк метнулся к бутылке, схватил ее — и как шарахнет ею брату по голове! Ударил метко: выбил чекисту глаз. Начальник заорал, боль дикая, это ж без анестезии. Раненый глаз он прикрыл ладонью, а другой рукой достал пистолет и брата таки застрелил. Мозги разлетелись по стенке, как у них там и было заведено. Где брат твой, Каин? Чей, как говорится, Крым?
Вот ведь выдержка и духовность! И принципиальность, и справедливость — все равны перед законом. Убил брата — и служил дальше, спокойно, как ни в чем не бывало. И вроде всё шло хорошо, ну в их понимании. Но потом… С того дня, с расстрела прошел месяц — и случилось вот что… В один прекрасный — ну, или какой там — день братоубийца сел на мотоцикл, завел, тронул, разогнался — и на полной скорости въехал в ограждение из колючей проволоки, она была натянута вокруг особого отдела. И вот Журба лежит, весь в рваных ранах, кровища хлещет. Сперва подумали, что это случайно так вышло, не справился с управлением, бывает. Потом смотрят — а комиссар не в себе. Головой тронулся. Не просто слегка, не чуть, как все там, в душегубке, а напрочь. Орет, наган просит, головой об стенку бьется. Ну, связали его. Конечно, сняли с должности — какой из идиота начальник ЧК? — и отправили в дурдом, подумали — может, подлечится там, вернется на службу… Дальше следы Журбы затерялись.
Но не все там были слабохарактерные и чувствительные. Так-то ребята убивали легко и без видимых последствий. Знавал мой дед некоего Лазаренко, тот командовал эскадроном ЧОН ВЧК. Если брали бандитов живьем, командир не позволял их расстреливать. Не потому что гуманный, там другое. Там был такой порядок. Пленных приводили к Лазаренко по одному. Связанных. И вот он сажает человека на землю, сжимает тому плечи коленями — и откручивает ему голову, ну примерно как петуху. Про этого командира никто не говорил, что он божевiльний — нет, понимали это так, что человек просто обозленный. И потому вроде как в своем праве. Все ж знали, что бандиты убили его родителей. При Лазаренке неотлучно находилась его жена. Она сама, правда, не убивала. Но и не отворачивалась. Просто смотрела на казнь, и всё. Ей этого хватало.
Читать дальше