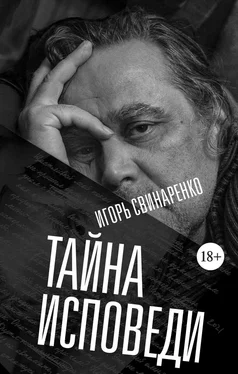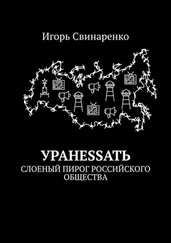На поминках по Димону мы закусывали самогонку мясом, и я думал про то, что оно вырезано из падали, свежей падали — впрочем, не всегда такой уж и свежей. Я все-таки съел тогда свою мясную порцию, не сблевавши, хотя мне казалось, что я ем своего мертвого друга, которого будто бы не закопали, а разделали и теперь раздают людям по кусочку, чтоб помянули. Некстати же сюда вплеталась тема крови Христовой и плоти Христовой же. Да, совершенно некстати — но куда было от этого деться? Вообще кто знает, чье мясо спрятано от нас в пельменях? Удивлюсь ли я, найдя однажды в каком-нибудь пирожке детский ноготь? Ну да, ну да, это ж всё происходило не в блистающей Москве, но — в местах, затронутых Голодомором…
Я таки доел свою порцию падали, заставил себя, а дальше закусывал как конченный веган — картошка, огурцы, винегрет. Впрочем, вареный буряк был, разумеется, цвета трупных пятен. Как будто вся наша жизнь переехала в морг, на кладбище, и вот она движется вокруг кучи мокрого жирного чернозема, который красноречиво сигналит о временной пустоте чьих-то могил.
Ничего нельзя было с этим поделать. Ну какая может быть радость среди свежих скучных трупов и дешевых гробов? Да никакая. Надо отнестись к этому спокойно, только и всего. Что сбивало накал этих эмоций, так это алкоголь, мечта об алкоголизме, когда ты еще жив, но тебя уже ничего не волнует, страсти улеглись, укладываются. Такое как бы просветление для бедных. Сидишь такой бухой — и медитируешь себе.
Да, так я приехал тогда вскоре после путешествия с гробом и возни на кладбище — к деду, проведать любимого старика, раз уж меня закинуло в тот город.
Мы сидели за столом в дедовском домике на окраине, я расспрашивал его о прошлом, потому что настоящее его было серо и однообразно, ну и незачем тогда о нем. А прошлое его было, как казалось ему (всегда) и мне (в нежном возрасте) ярким временем ясности, простоты и некой высшей окончательной правды.
Я вывел разговор на больную для меня и самую важную в те дни тему: смерть, смерть, смерть — и спокойствие перед лицом этой всеобщей погибели. Не спокойствие, так хоть равнодушие. Больше тогда я ни о чем думать не то что не мог, а не хотел.
Дед стал рассказывать…
То, про что молчал раньше, не желая смущать и сбивать с толку меня, малолетнего внука. Когда дед поступил в ЧК, то его, новичка, провели по зданию Харьковской чрезвычайки — показать, где что. Завели в том числе и в подвал. Распахнули дверь, и дед прям отпрянул, с искривленным лицом.
— А что такое? Что тебе не нравится? — весело спросил провожатый.
— Что ж за вонь у вас тут?
— Какой ты нежный! Привыкнешь еще.
— Да что ж это такое?
— Та здесь мы тукаем. Ну в исполнение приводим. Трупы убирают, конечно, моют, тут с этим порядок — а мозги, они разлетаются по стенам, когда в голову из нагана, и никак их после не отчистить, вот они и гниют. Ничо нельзя с этим сделать. Надо терпеть…
Потом — быстро сказка сказывается — из подвалов их тамошней мини-Лубянки он попал в школу младших командиров ВЧК, учить пулеметное дело, которое в те времена лежало вполне в сфере высоких технологий. Типа нашего Сколкова. Силиконовая такая долина. «Максим», конечно, а также «Кольт», «Льюис» и даже такая экзотическая малоизвестная модель, как «Шварц-Лозе». Учебных пособий, то бишь пулеметов, хватало, а вот со всем остальным были проблемы. Жратва — скудная, быт — бедный. Жили в бывших казачьих казармах. Никаких одеял, укрывались своими шинелями. В холода курсанты топили печку-голландку. Дровяного довольствия не было, так что чекисты разбирали в городе заборы и ломали на кладбище кресты, жар они давали хороший. Ну а че, Бога ж нету — ну и ничего за это не будет.
Учеба длилась полгода, а после — экзамены. Выпускникам выдали аттестаты. Лучших наградили ценными подарками. Деду достались не какие-нибудь красные революционные шаровары, как в совецкой поделке «Офицеры», но аж серебряный портсигар.
После торжественной части — праздничный ужин. Все знали, что у командира стрелкового взвода жiнка гнала самогонку, ну он и принес четверть, как ожидалось. И командир школы — тоже притащил четверть, у него самогон был не простой, а элитный, настоянный на меду. Субординация — кому что дозволено, тот и Юпитер. А начальник штаба так вообще отличился: пришел с бутылкой фабричного денатурата, и по накалу форса это был уровень вполне себе Chateau Margaux.
За ужином, выпив, вели разговоры. Дед принялся расспрашивать — уже как равного, — комиссара Марченко — о причинах, заставивших того однажды ночью устроить у себя в комнате стрельбу. Дед как раз дежурил тогда по части, а тут вдруг пальба. По тем временам она могла означать что угодно — ну кроме праздничного салюта. И вот дежурный схватил пистолет — и бегом на выстрелы. Влетает в комнату, а там комиссар. Сидит голый на кровати, тупо смотрит в стену. В руке его дымится пустой наган.
Читать дальше