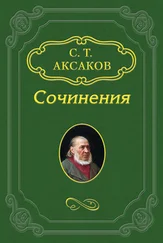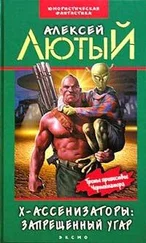Потому что Она выдавала себя с головой своим тихим, надмирным свечением, словно ангел, возносящий душу к небесам.
И когда одиннадцать ягненковых овалов были бы собраны по разным торговцам и упакованы для нее, она бы пошла туда, где одуряюще пахло чаманом, кардамоном и мускатом.
И там, сообразуясь с наитием, выбрала бы жертвенных притираний для агнца.
А дома — в стеклянной темной гусятнице уложила бы умащенные чопсы напитываться ароматами. До вечера.
Смывала бы специи с рук долго, намыливая пальцы, чистя щеточкой ногти, глядя на бег воды, обволакивающей ее красивые кисти, и хвалила бы тихо Бога за данность пальцев, за то, что дано им ласкать и нежить и что-то успевать творить.
Потом часа четыре работала бы с переводом, набивала нужное количество знаков на верном ноутбуке.
И пыталась бы не думать все время о Нем.
Не вспоминать эти усталые глаза, бархатные местечки на высоких узких скулах, упрямый красивый нос, горьковато-надменный рот, седую роскошную голову и то, как с-ума-сводяще колется стильная щетина короткой бороды.
Ей было странно, что любовь считали чувственной. Потому что ее любовь была сверхчувственной. Или это по-другому как-то называется?
Как это называется, когда самая мысль о человеке выключает тебя полностью, отрезает от мира всех, погружает в измерение, где только он и, краешком сознания, ты?
Просто любовь? И у всех так?
Ну и не могла она выносить это просто, не избывая, поэтому сейчас, на кухне, посылая ягненка в жар духовки, она бы что-то там шептала взвихренно-нежное, посылая своему мужчине любовную стрелу под шестое ребро слева.
Строгая лук на крохотные кубы, слегка посапывала бы носом от луковых слез.
Золотила бы луковые квадратики в кипящем масле, добавляла бы туда тончайшие морковные полоски. «Мой золотой» — так нежно бы думала.
Почему из всех драгоценных металлов «золотой» звучит особенно чувственно? «Теплый, живительный, солнечный мой, золотой» — так бы думала она.
Если бы они жили вместе.
…А баклажаны разрезать поперек (надвое рассечь, как душу, когда его нет рядом) и потом — на узкие продольные ломтики. И крупной солью посыпать. Как рану? Банально и больно одновременно.
И смыть эту соль, она нужна лишь для того, чтобы исторгнуть горечь из мягкой светящейся плоти.
Что ж, как всегда: соль, которая есть суть, наложить на боль, и из сердца исторгнется горечь, чтобы ее потом не стало совсем.
Просушить баклажановые ломтики от слез и обжарить на сильном огне.
А ягненок уже испекся. Теперь сверху выложить золоченый лук, морковь и баклажаны, и кольца свежего разноцветного перца, и толченый жемчуг сухого чеснока, укрыть фольгой и минут на десять (нет! На одиннадцать, это число было бы «их» числом!) вернуть в духовочный жар.
Если бы они жили вместе, в эту минуту он бы открыл дверь и вошел. Рабочий панцирь стаял бы без следа. Под глазами — следы дневных пыток.
И пока он мыл бы руки и менял доспехи, она бы укладывала на большущую желтую тарелку горку пропитанных друг другом овощей. А вокруг короной выстраивала бы чопсы ягненка. Одиннадцать зубцов короны.
Одиннадцать — это один и один.
Это он и она. Если поставить их рядом, то получится не двойка, а, вопреки всем законам исчисления, одиннадцать.
И только они знали бы — почему.
Если бы они жили вместе.
* * *
Мне было ясно, что моя жизнь с мужем подошла к завершению. Пора уходить.
И я заговорила об уходе.
Просто об уходе.
Нужно было высвободить себя из положения жены. Честно остаться одной и попытаться выстроить отношения с Игорем.
То, что написано здесь, входит в повесть таким же образом, как пробуждение входит в сон. Сон, которому я предавалась, был разодран на шифоновые лоскутья — стоило мне только попытаться воплотить его в реал.
Посмотреть мой сон моими глазами попросила я мужа моего. Разве кто-нибудь предпочтет чужие глаза своим?..
Там, где она обитает
Каждый вечер, в одиннадцать, он ведет Лику гулять.
Заглядывает в дверь спальни, где она почти срастается со своим ноутбуком, сидя среди подушек на шведской железно-узорчатой кровати.
Он молчит и ждет.
Она вскидывает глаза, умоляюще изгибает бровь и морщит нос: подожди, мол, еще немножечко, а?
Ждет. Уходить нельзя, иначе Лика опять просочится в Сеть или увязнет в письме кому-то, а ее надо обязательно «прогулять». Перед сном.
Гуляют они далеко. Бредут в нарядном ночном освещении расточительного мегаполиса километра на три-четыре от дома.
Читать дальше