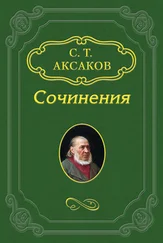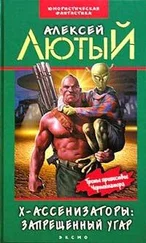Он бы выпивал свой кофе и молча сидел, вслушиваясь в просыпающийся день.
Она забирала бы пустую теплую чашку из его тонких нервных пальцев, ставила на маленький столик с книгами.
Пока он фыркал и плескался бы в ванне, она ласкала бы его галстук, выбранный на сегодня. Просто, едва касаясь, проводила бы ладошкой по жаккардовому полю.
Сидела бы в подушках, наблюдая его облачение в костюм. Эта метаморфоза вечно веселила бы ее. Вот он — худой и шерстистый, такой весь ее, а вот уже — барин в костюме, ломкой рубашке и чопорном галстуке. Красивый. Головокружительно. Ему только шестьдесят. Ей… не важно.
За окном бы светало.
А они, устроившись на диване, смотрели бы какие-нибудь утренние евро-новости, так не похожие на наши, ели бы на завтрак зерненый творог со сливками и ванильные булочки. А может, он любил бы глазунью с беконом? Ну тогда бы пришлось надевать салфетку, чтобы не смешать галстук с чуть желейным желтком…
Потом он придирчиво осматривал бы свои туфли или ботинки, выбирая, в чем сегодня пойти. Что-то ворчал бы себе тихонько.
В этот рабочий мир нужно было уходить из их нежного дома, где жили лишь они вдвоем. Поэтому ворчалками он ожесточал свое сердце, готовясь ступить в ежедневный бой.
Не вмешиваясь в этот его ритуал облачения в рабочие доспехи, стояла бы, закутавшись в шаль, и мысленно выстраивала ангелов-хранителей ему в затылок, и ошуюю, и одесную, и впереди него, и над ним… без счета, безотлучно, чтобы ничего с ним — не дай бог…
Он уходил бы, не целуя ее, чтобы не разморозить ненароком свой рабочий панцирь. Только оглядывался бы у двери, чтобы получить на прощание две неслышные «ю» с ее губ.
Она бы понежилась еще в кровати, лежа на его стороне, впитывая кожей его тепло от простыни, подушки, стараясь уловить жалобы его, уже устающего от жизни тела. Потому что нервы, сердце, давление… Надо подумать о травах для него, о лечебном чае, о витаминах…
Колдовала бы над едой, чтобы ему было весело и хорошо ужинать. И вот на этой мысли она покидала бы уютную берложку спальни, собиралась и шла бы на рынок.
Мимо уныло-суетной стереометрии домов.
Мимо дышащих своими обидками людей.
Шла на торжище, где вечный праздник обмена, и спорт, и азарт, и игра в «кто кого».
Где носатые и глазастые торговцы, как обычно, прищелкивают ей вслед языком, зазывают к себе, норовят угостить золотой курагой, абрикосовой синильной косточкой, прозрачным изюмом, наивные искусители.
Она бы улыбалась им ласково, отшучивалась нежно.
Она бы шла-плыла вдоль прилавков и ждала зова.
Вот фиолетово засиял баклажан. Да. Значит, баклажаны. Но что? Сотэ? Возможно. Нужно послушать дальше. А пока пара протяжных темных кожистых фиолетов ложится в корзинку.
Вот она идет дальше, слушает вполуха голоса вещей и примеряет по привычке английское название на «баклажан». Egg-plant — «растение-яйцо», так примерно. Потому что первые баклажаны были белокожи, как куриное яйцо. А такими царственно-фиолетовыми они стали уже потом. «Для тебя, — думала бы она, — для тебя, мой мужчина, мой король, они надели этот императорский цвет. Чтобы ты удостоил их собой».
«Любовь-морковь», — вспомнилась вдруг глупая присказка. Что ж. Морковь — вот она. С воспетым Улицкой круглым кончиком. (Ух, как каламбуристо, ага!)
Ну, раз морковь, то, похоже, готовить надо сотэ. Посмотрим.
Сил нет пройти мимо красного лука. Он не красный, он цвета каймы плаща приснопамятного прокуратора, и домик Мастера и Маргариты просто требует этого венка из пяти луковиц.
Перцы желтые и красные манят своим глянцем. Просто поддаться искушению и купить. Потому что смысл искушения не в бегстве, а в преодолении. Но иногда — лучше в непреодолимости.
Как празднично сверкала бы ей сбрызнутая водой зелень, если бы они жили вдвоем. Она бы знала, любит ли он траву кориандра.
Слишком сильный запах у этой травы, лучше пока пройти мимо.
Для сотэ нужно мясо. Очень нежное, потому что у него иногда ноют зубки.
Эти зубки — особый предмет ее нежности, чуть неровные, от вида их заходится сердце.
Барашек? Возможно. Если есть чопсы. Есть. Вот они — очень розовые овалы на тонких ребрышках ягненка.
Каждый агнец — жертвоприношение.
«Тебе, мой император, мой императив, моя жизнь», — думала бы она.
Капризно настаивала бы на том, что хочет купить именно одиннадцать чопсов. И торговка, меря ее взглядом, менялась бы в лице, проходя весь спектр от лебезливой угодливости к тихой ярости. А потом — нежданным озарением — к давно забытому умилению чужой любовью.
Читать дальше