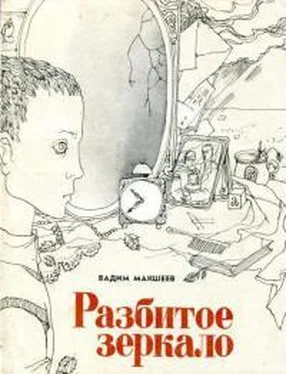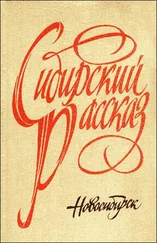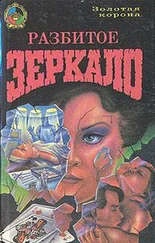Шевчихин замотал головой и отвернулся к окну.
На какое-то время в комнате стало тихо. Слышно было лишь музыку, да как временами потрескивает за печкой.
— Дом оседает, — нарушила молчание Дарья. — Как оттает земля, начинает избу корежить. Вода нынче в подполье без малого месяц стояла. Степан живой был, каждую весну воду отводил, теперь все сама и сама. А руки-то какие, хоть бы ложку удержать.
— Э-это с-самое — ложка, — оживился Шевчихин, подтолкнув Дарью, чтобы та слушала. — М-меня н-на фронте л-ложка спа-спасла. Шел с котелком к кухне, а с-снайпер, г-гад, уже пристрелял то ме-место. И вдруг п-пало на ум — взял ли я ложку? В пра-правой руке ко-котелок, потянулся л-левой к пра-правому голенищу. — Шевчихин нагнулся, показывая, как это было. — Пуля и у-ударила в руку пониже плеча. В сердце ле-летела. А я, значит, с-сердце прикрыл. Кость раздробило плечевую…
— Ну че вы, мужики, все про войну, — жалобно сказала Таисья. — Хоть бы о чем другом поговорили.
— Т-так оно все з-здесь, — Шевчихин постучал себя в грудь. — Бо-болит.
— Да ну, в самом деле, — Лунев подал ему отставленную гармонь. — Давай, Данилыч.
Тот, малость успокоившись, поставил себе на колени трехрядку и, перебирая худыми пальцами лады, вопросительно поглядел на хозяйку.
— «Коробочку» можешь? — спросила Дарья.
Склонившись над гармонью, Шевчихин пробежал пальцами по планкам, вслушиваясь в голоса, поймал мотив. Гармонь запела, словно выговаривая знакомые слова.
— Пойдем с тобой, Даша, — позвала Таисья, искоса бросив взгляд на опять закурившего Лунева. — Пойдем, потанцуем.
— Да я уж позабыла, как ноги переставлять, — застеснялась Дарья.
— Пошли, пошли… — Таисья потянула ее из-за стола.
Заходили вдвоем по комнате, далеко, как бывало когда-то на танцах в деревенском клубе, отведя в сторону сцепленные руки. В вязаных шерстяных носках, волосы с проседью, пальцы сведены работой. Неловко переступая, кружились, вдруг припомнив давнее, смущаясь оттого, что танцуют старые…
Цены сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись…
— Хватит, Тась, голова кругом. — Дарья, переведя дух, прислонилась к печке. — Осудят ведь мужики-то. Не молоденькие.
— Хоть не зря выпито, — отмахнулась Таисья, застегивая расстегнувшуюся кофту. — А этим мужикам хоть сколь подавай — ни спеть, ни сплясать.
Присели на стулья, отдышались, смущенно поглядывая друг на дружку.
— Давай еще, Гриша, веселую, — приказала Таисья. — Чтоб забыть все.
И когда гармонь, охнув, задохнулась переборами, соскочила и, вторя им, тяжело застучала ногами. Заколыхалась дебелая, рыхлая:
Гусь, не трусь, воробей, не робей,
Хвать, похвать — да и не с кем спать…
Лунев подмигнул Шевчихину — эко, разошлась-то баба.
— А ты че сидишь? — задирчиво бросила на ходу Таисья. — Эх, не в коня корм. Покажи выходку, Даша, ухайдакалась я.
Глянув в зеркало, Дарья пригладила ладонью разделенные пробором волосы, прошлась по кругу, мягко притопывая пятками. Сухопарая, смуглая, еще сохранившая что-то от былой красоты:
Цветы белы, лопушисты
Покрывали поля чисты.
Не покрыли одного —
Горя лютого мово…
И с разворотом, раскинув руки, колыша штапельным с мелкими цветочками платьем, часто задробила перед Луневым:
Я плыла, плыла, плыла,
К морю ледовитому.
Приплыла, на грудь упала
К милому убитому!
Отчаянно выкрикнула последние слова и, обреченно махнув рукой, опустилась на стул.
Гармонь вздохнула и смолкла.
— А что у тебя-то, Петровна, тоже кого-то на войне убило? — спросил Лунев, комкая пустую пачку от сигарет.
Дарья, раскрасневшаяся от пляски, отвернулась.
— Поди нет такого человека, у кого бы кто-то из родни не погиб, — ответила за нее Таисья.
— Гармонисту подать надо, — сказала Дарья, все еще тяжело дыша. — Спасибо те.
— Д-да я, эт са-амое, не-не… — зазаикался Шевчихин.
— Чего уж… — Дарья чувствовала, как колотится ее сердце. — Есть бутылка кагора, думала себе на лекарство оставить, да ладно уж.
— А говорила — нету, — прищурился Лунев. — У этих баб, как у…
Выпили и опять стали вспоминать минувшую почти сорок лет назад войну.
— С-сюда п-пуля н-не п-прошла, а с-сердце бо-бо-лит, — ударял себя по впалой груди Шевчихин. — Бо-болит…
— Сколько я похоронных-то переписал, — сокрушенно качал головой Лунев. — Домой вернулся, бои не снились, а вижу во сне, будто похоронные пишу. Все пишу-то и пишу…
И снова начинал рассказывать о своем, а Шевчихин хотел говорить о своей боли, но уже не мог, только крутил головой и мычал.
Читать дальше