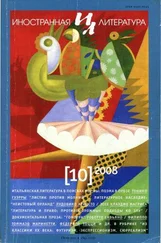Использовать слово «служащий» как оскорбление — банально и пошло: Пессоа и Звево сочли бы, что это заслуженный атрибут поэта. Такой поэт подобен не Ахиллу или Диомеду, яростно скачущим на боевой колеснице, а Улиссу, знающему, что он никто. Его явление людям состоит в явлении безличности, прячущей его среди вещей, подобно тому, как путешествие прячет фигуру путника за шумом дороги. Кафка и Пессоа путешествуют не на край темной ночи, а на край еще более страшной бесцветной посредственности: попав туда, понимаешь, что ты всего лишь вешалка для жизни, а поняв это, можно отыскать на самом дне невероятно стойкую правду.
Мессия придет к безымянным и смиренным, а вовсе не к тем, кто поигрывает крепкими мускулами жизни; он придет к «бедняку» Вирджилио Джотти, писавшему сияющие неярким, но неугасимым светом стихи, в которых он говорит о любви к жене и детям и о службе в муниципалитете, а не к помпезному Пабло Неруде, озаглавившему свои воспоминания «Признаюсь: я жил». В одном из своих гениальных прозрений Селин признает тщетность всякого натужно демонстрируемого личного витализма: «Ma vie est finie, Lucie, je ne débute pas, je termine dans la littérature» [18] «Моя жизнь окончена, Люси, я не дебютирую, я ставлю точку в литературе» (фр.).
. Селин способен испытать острую жалость к отдельным людям, например к детям-монголоидам, за которыми он ухаживает во время бегства по Германии и в глазах которых он видит достоинство, помогающее выжить на скотобойне истории, но Селин не способен признать собственную ошибку. Он никогда искренне не сожалеет об истреблении евреев, он не способен ощутить конкретную человечность тех, с кем он лично незнаком.
В замке Зигмаринген есть церковь и музей. В одной из трех сцен из легенды о святой Урсуле, написанных около 1530 года мастером Тальгеймского алтаря, внимание привлекают злые глаза одного из лучников; в сценах Распятия и Коронования терновым венцом изображены животные толпы, зверские морды, мерзкие носы, отвратительные языки. Возможно, Селин узнал бы себя в этом жестоком, примитивном, плебейском насилии, ибо он знал, что тоже принадлежит к анонимной толпе — той, что изображена мастером из Мескирха в сценах Благовещения и Рождества. В этом величие Селина: лишь опыт пролетарской нищеты позволил некоторым реакционерам стать истинными поэтами, несмотря на сделанный ими ложный выбор; Гамсун и Селин — истинные поэты, ибо они совершили одиссею по просторам голода и тьмы, отсутствие подобной одиссеи делает бесплодной аристократическую патину Юнгера.
Анархист, зачастую действовавший себе во вред, Селин заплатил дорогую поэтическую и интеллектуальную цену за презрение, которым он питался. Презрение способно сыграть злую шутку; любая фраза, любой поступок, любое утверждение кажется глупым тому, кто воспринимает их со своего рода метафизической предубежденностью, видя все на расплывчатом, неуловимом, недостижимом фоне жизни, рядом с которым всякий моральный принцип кажется недостаточным и претенциозным. Декларация прав человека звучит смешно и напыщенно, и она, безусловно, жалка в своем несоответствии бездне существования. Но тот, кто выслушивает ее с ухмылкой умника, считая себя вдохновленным и конгениальным толкователем этой бездны, оказывается столь же напыщенным и столь же далеким от сфинкса. Селин может потешаться над тем, кто рассуждает о демократии, но с таким же успехом в силу той же механической логики насмешки последний болтун может потешаться над каждым словом Селина. Селин еще и Тартюф, ханжа, хотя он и пытается защититься, вкладывая это оскорбительное определение самого себя в уста профессора И. «Mes accusateurs sont tous de employés — moi, non» [19] «Все мои обвинители — служащие, а я — нет» (фр.).
, — такое мог сказать только ханжа. Кафка был служащим, но уж он точно не больший ханжа, чем Селин. Это верно, но ведь Кафка еврей.
Универсальный Дунай инженера Невекловского (Германия)
Веришь ли ты в Ульм? — вопрошал Селин во время бегства по землям разоренной Германии. С ехидством и горькой насмешкой он спрашивал себя, существует ли еще Ульм или его разбомбили? Когда действительность безжалостно уничтожают, думать о ней становится актом веры. Но когда всякий миг уничтожается вся действительность (к счастью, не всегда при этом разыгрывается кровавый спектакль разрыва фосфорных бомб, это может произойти почти незаметно), остается лишь верить в то, что действительность существует. С этой верой живешь, она проникает в движения тела, придает жизненно необходимую твердую уверенность, позволяющую идти по свету со спокойным сердцем. Граф Хельмут Джеймс фон Мольтке, правнук прусского фельдмаршала, выигравшего битву при Седане и прозванного мыслителем сражений, твердо верил в Иисуса Христа, когда в 1945 году Народный трибунал Третьего рейха осудил его на смерть как противника гитлеризма; он принял казнь так, как порой принимают приглашение на ужин — идти не хочется, но не отвертеться.
Читать дальше