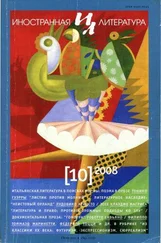Селин взглянул в лицо Медузе, увидел пустоту, скрытую за копошением и гниением жизни, словно в выпотрошенных взрывами бомб домах, где за случайно сохранившимся фасадом ничего нет. Он еще ярче воспроизвел открывшуюся людям пустоту, которая (как и всякий опыт общения с абсолютом) познается через мгновенное озарение, а не через настойчивую проповедь. Джиджи очень любит Селина и не хуже его умеет глядеть в лицо Медузе, однако веселое добродушие, с которым он выдерживает ее взгляд, мастерски играя в карты или разливая вино, возможно, в большей степени воздает должное полноте и пустоте жизни.
Величие и падение сосуществуют во всем творчестве Селина. В самой страшной своей книге «Безделицы для погрома» (одном из редчайших примеров заслуживающей обвинения и наказания истинной трансгрессии среди множества невинных шалостей литераторов, которым хочется нарушить правила, но которые при этом держатся за гарантию неприкосновенности и за страховку) есть пространное скучное излияние чувств мелкого буржуа, лавочника, соединившего в себе все предрассудки своего пауперизированного и потерявшего ориентиры класса, но есть там и гениальный, искаженный снимок XX века, который невозможно забыть. Взгляд Селина, затуманенный ненавистью, а порой становящийся из-за нее острее, срывает маски с лихорадочной культурной индустрии, видит в ее бесплодном, фригидном возбуждении, в непрерывном, натужном преждевременном семяизвержении глухой заряд насилия. Лихорадочная мобилизация, властно призывающая деятеля культуры встать под ружье и принять участие в военных маневрах симпозиумов, дискуссий и интервью, — это истерия, охватывающая людей, которые оказались в переполненной комнате, история мира, в котором на каждой двери написано: «Мест нет».
Коллективное сознание, не желающее преодолеть насилие, но и не имеющее смелости взглянуть ему в лицо, сублимирует эгоизм и произвол в выхолощенный культ чувства и страсти, в культуру, которую Селин разоблачил, назвав ее «лирическим биде». Эта культура, которой неведомы немудреная правда секса и сложная правда любви, представляет собой царство великой промежуточной лжи, лирический гимн работе половых желез, трепет amour-passion [17] Любовь-страсть (фр.).
, призванный оправдать обман и самообман. Селин, поэт секса и тоски по любви, безжалостно разоблачает фальсификацию чувств, отсутствие настоящего секса и настоящей любви, приток крови к низу живота, которому, чтобы облагородить себя, нужно взлететь вверх и изойти растроганными вздохами; он разоблачает неспособность любить и трусливое желание дать сексу, не имеющему отношения к любви, сентиментальный костыль, о который иные начинают спотыкаться, а потом и вовсе ломают ногу. Подобной культуре, «лирическому биде», в отличие от великих религий, нужно непременно позолотить пилюлю.
Реакционер Селин, подталкиваемый мучительным страхом неминуемой всеубийственной войны, становится пронзительно громким голосом подлинного горя, хотя выписанные им лекарства, в свою очередь, — симптомы и разрушительные последствия болезни, спасающие жизнь рецепты звучат почти как невольная пародия на великие, распахнутые над пропастью смерти страницы «Путешествия на край ночи».
Так великий бунтовщик, написавший в этой книге незабываемые строки об ужасе войны и неспособности людей вообразить ее, даже когда они ее непосредственно переживают, воспевает полосу огня как момент истины; поэт детства, над которым грубо надругались, оплакивает здоровое воспитание, лишенное щепетильности и скорое до порки; автор памфлета усваивает омерзительные общие места антисемитизма, которые в «Смерти в кредит» он вложил в уста отца и которые воспринимались там как нелепые предрассудки; анархист, говоривший от имени всех людей со смуглой кожей, сожалеет, что христианские церкви отказались от идеи превосходства белых. Его трилогия о Второй мировой войне объединяет в единую, общую ложь все идеологии, правые и левые, демократию, фашизм и даже антисемитизм, он полностью отказывается от общества, в котором ему теперь видится не всемирный еврейский заговор, а всемирный заговор победителей и побежденных, включая евреев, альянс между банками, вьетконговцами и космическими станциями.
Селин обнаружил зло, и зло ослепило его. Как говорил Бернанос, он услышал голос позора, подобно исповеднику в нищем квартале; и все же, в отличие от многих старых исповедников, он не сумел подремать в перерыве между исповедями, утомившись от повторяющегося перечня ожидаемых прегрешений, не разглядел обыкновенную банальность зла. Подобно другим французским писателям его поколения, которые полагали, что вместе с Жидом могут сказать: «Я жил», Селин тоже искал «жизнь», не догадываясь о скрытой за этим желанием мегаломании. Как нередко признавался сам Селин, крича во все горло, он надеялся защитить девственную, дикую невинность «я». Он презирал служащих и похвалялся, что не относится к ним, словно это гарантировало ему особого рода подлинность и словно потасовки Хемингуэя априори более поэтичны, чем дела, которые разбирал в своей конторе Кафка.
Читать дальше