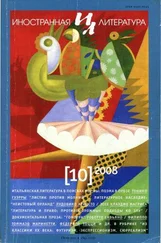Кстати, Хайдеггер, по счастью, вступил в противоречие с культом корней; высшие достижения его мысли связаны с утверждением, что «утрата корней есть основополагающий способ бытия-в-мире», что, не потерявшись и не познав утрат, не поплутав по расходящимся в лесу тропинкам, нельзя стать призванным, невозможно услышать истинное слово Бытия.
Сын ризничего из Мескирха, воспитанный в лоне старинной швабской религиозности, хорошо понимал: для того, чтобы приблизиться к истине и любви, нужно оторваться от корней, уйти далеко, прочь из дома, порвать все непосредственные связи, порвать со всякой religio детства, подобно Иисусу, который в одном из самых суровых эпизодов Евангелия спрашивает у матери о том, что их связывает. С одной стороны, Хайдеггер близок к мифу крови и почвы, с другой — он близок к истине Кафки, призывающего уйти в пустыню, подальше от Земли обетованной. Возможно, из-за этого еврейский поэт Целан, ужаснувшийся тому, как нацисты уничтожают людей и какая после этого остается пустыня, сумел отыскать тропинку, ведущую к хижине Хайдеггера, добраться туда и побеседовать с бывшим ректором Фрайбургского университета, который в 1934 году поставил, хотя и временно, философию на службу Третьего рейха.
Окружающий эту хижину шварцвальдский лес стал трансцендентальным и универсальным пейзажем философии. Хайдеггер выбрал Lichtung (лесную поляну, где, как на лужайке моей горы Снежник, нет ничего неуловимого, а есть лишь горизонт, на котором видны предметы) символом высшего смирения мысли, местом, где можно услышать Бытие.
Хайдеггер отмечает объективный и необходимый характер процесса, который привел к победе техники и, как он говорит, к забвению Бытия; отстаивая подобное видение, он абсолютизирует относительное, рассматривает технику как нечто фатальное и свойственное современной эпохе, забывая при этом, что пашущий землю плуг уже принадлежал царству искусственного и что интеллектуал Римской империи не менее остро ощущал удаленность природы и отчуждение man [15] Местоимение man употребляется в роли подлежащего в неопределенно-личных и обобщенно-личных предложениях. Хайдеггер использует понятие das Man в «Бытии и времени» (1927), рассуждая о безличном мире и неподлинном существовании.
, безличность неподлинного существования.
Хайдеггер не был чистой душой, уверенной, подобно Вихерту, что для восстановления гармонии достаточно воззвать к добрым чувствам и призвать вести простую жизнь. Он ставил всей планете диагноз «технизация» без моралистического пафоса, как и подобает философу, задача которого — запечатлеть с помощью мысли свое время и понять его законы, а не осуждать гнусность своей эпохи. Однако это вовсе не означает, что, как нередко говорят, он способствовал победе техники. Сейсмологи определяют силу землетрясения по шкале Меркалли, не оплакивая жертв, но из этого вовсе не следует, что они одобряют подземные толчки. Разговаривая в дверях с госпожой Кауфманн, которой не хотелось меня впускать, я разглядел узкий темный коридор, наводящий на мысль о том, что детство, проведенное в этом доме, вряд ли было счастливым. Табличка на соседней двери гласит, что там проживает налоговый консультант, влиятельный чиновник Духа в эпоху, когда Дух превратился в расчетливый ratio.
Среди стен стоящего на берегу Дуная замка другой актер, сыгравший первые роли в кровавом театре своего века, Селин, жил, страдал и играл в пьесе об утрате корней и кошмаре тотальной войны. Глядя на яростно бьющуюся о стены реку, Селин воображал, как она, словно свирепая разрушающая сила, сметет башни, гостиные, фарфор, унесет их к самой дельте, кроша и хороня историю среди покрытого илом тысячелетнего мусора. Призрак окончательного уничтожения дарил Селину горькое утешение, подталкивал к тому, чтобы бегство загнанного зверя затерялось в безжалостном и бессмысленном разрушении всего окружающего.
День сегодня бледно-голубой, запах снега и спокойный Дунай, его утки и камыши не вызывают картин разрушения в памяти германиста, который путешествует сорок лет спустя, над головой которого не рвутся бомбы британских ВВС и которого не преследуют сенегальцы армии Леклерка с обнаженными палашами. Все попадающееся на пути располагает к отдыху: путешественнику не хочется нестись вперед, а хочется остановиться, запечатлеть в памяти лица и пейзажи, номер гостиницы в Тутлингене, из которого он выехал несколько часов назад, проведенное в нем время, воды сна и амфору, что всплыла на поверхность из его моря. Путешествие — доказательство верности себе того, кто живет оседлой жизнью и всюду отстаивает свои привычки, свои корни, стараясь обмануть, даже передвигаясь в пространстве, разрушительный бег времени, чтобы вновь и вновь повторять привычные действия и жесты: садиться за стол, болтать, любить, спать. Среди украшающих залы замка Зигмаринген латинских девизов, которые, как и всякое высказывание на мертвом языке, воспринимаются как нечто беспрекословное, есть и слова, прославляющие любовь к родному краю, дух, живущий в доме и не стремящийся покинуть его стены: «Domi manere convenit felicibus» [16] «Счастливым пристало оставаться дома» (лат.).
.
Читать дальше