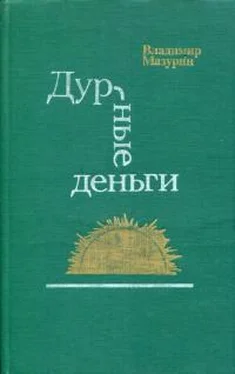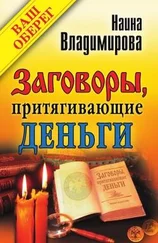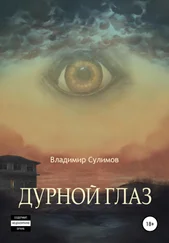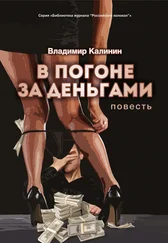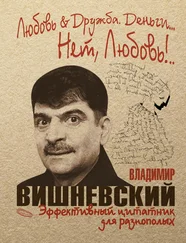Домой я возвращался с пустой корзинкой. Впрочем, неудачи в таких случаях не очень-то меня расстраивают. Можно ли говорить о неудаче, если ты побывал в лесу, побродил по любимым с детства местам? Уходить не хотелось, я прилег на землю, в нескошенную здесь, возле опушки, траву и стал смотреть в небо.
Оно не везде одинаково — это замечено давно и признано всеми. Подвластно оно и времени — нет, не смене времен года, а именно времени, необратимому ходу его. Взять хотя бы гром среди ясного неба. Человек, которому впервые пришли в голову эти слова, даже не предполагал, что он будет обычнее, чем грозовые тучи летом. К нему вроде бы привыкли, но все равно люди вздрагивают, когда небо над головой раскалывается от реактивного гула. Все знают, что это звуковая волна, которая образуется, когда самолет преодолевает звуковой порог, но поди-ка привыкни к ней, если тебе известно, что однажды небо и впрямь может расколоться от атомного взрыва.
«Мир красотой спасется», — вспомнились мне слова великого писателя России. Мысль о нем вернула меня с небес на землю, и повод к тому был самый непосредственный, имеющий отношение к Большой дороге, вдоль которой я только что бродил в запоздалых и тщетных поисках грибов.
«Мир красотой спасется…» Великий писатель был великим мечтателем. И великим страдальцем. Общество, преследующее мысль и мечту, неизбежно обрекает человека на страдания. И даже гибель. Семеновский плац для Достоевского в николаевской России был такой же неизбежностью, как Черная речка для его любимого Пушкина, как сумасшествие для Гоголя, как чахотка для Белинского. Вместе с двумя товарищами-петрашевцами его увозили из Петербурга через четыре дня после экзекуции солнечным морозным утром 26 декабря. Спешили. Ровная по зиме, накатанная дорога ложилась под ноги бешено мчащейся тройке и, вырываясь из-под задка саней, приковывая к себе взгляд, убегала вдаль, а казалось — в прошлое. Вся жизнь осталась там, в прошлом, будущего у нее не было. А ведь начало сулило великую будущность — ее предсказывал Некрасов, верил в нее человек с горящим пророческим взглядом — Белинский. Верста за верстой, перегон за перегоном. Так вот какая она, Россия! Снега да убогие деревеньки с покосившимися домиками под соломенными крышами. Езда нагоняла оцепенение, равнодушие, скуку. Хорошо, фельдъегерь позаботился о тенте — все-таки защита от ветра. За Ярославлем начинался широкий, раскатистый Аракчеевский тракт. Нет, не случайно в конце царствования Александра возвысилась эта фигура. «Всей России притеснитель…» — вспомнилось начало ходившей тайно по рукам эпиграммы Пушкина. Да, да, это они, аракчеевы, заморозили огромную страну, сковали ее жизненные силы, превратили в казарму. Фельдъегерь то и дело поторапливал кучера, словно бы важное донесение вез. Короткие остановки прогоняли оцепенение. «Что за деревня?» — спрашивал Достоевский проходящего мимо кучера. «Майдаки, — отвечал тот сурово и не сразу — все-таки вез государственных преступников, посягнувших на самого царя-батюшку, — но потом вдруг смягчился и добавил: — Дальше, за лесом, будут Селишки, только их мы в стороне оставим…»
Разговор этот конечно же я придумал, потому что уж очень мне захотелось вдруг, чтобы Достоевский хотя бы услышал старое расхожее название наших Богатищ: ведь провезли его в Сибирь всего в двух верстах от них. По той самой Большой дороге, как называют теперь у нас знаменитый в прошлом Аракчеевский тракт.
Высоко в небе плавал коршун, и взгляд мой, найдя опору в неоглядном пустом просторе, невольно следовал за ним. Птица вершила свои неспешные круги, и каждый из них смещал ее в сторону дальнего леса — туда, где в летнее время садилось солнце. Хорошо бы, — подумалось мне, взглянуть на знакомые с детства места с высоты птичьего полета. Именно птичьего, когда на земле можно различить и идущего по дороге путника, и копну сена, и одиноко стоящее деревце. К сожалению, с заоблачных аэрофлотовских трасс, к которым мы привыкли, ничего этого не различить. Видишь геометрию полей, темные массивы лесов, разбросанные между ними селения, извилистые русла рек, железные дороги с идущими по ним поездами. И ничего не знаешь о том, над чем ты сейчас пролетаешь, — что там за реки и леса, что там за селения. Неинтересно. Приходилось мне летать и на небольших самолетах, обслуживающих местные линии и не так высоко забирающихся в небо. Пролетал вроде бы над знакомыми местами, но все равно ничего не узнал. А ведь, может быть, твоя родная деревня неторопливо проплыла неузнанной под сдвоенными крылами. Обидно.
Читать дальше