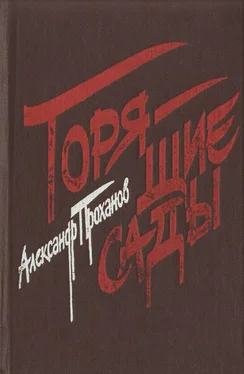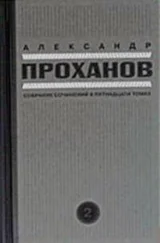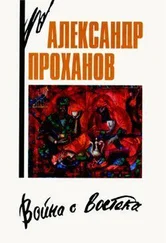— Они спрашивают меня: «Когда, по-вашему, появится возможность для реализации вашей гипотезы?» А я им отвечаю: «Через двадцать лет мы начнем плановое развитие цивилизации в масштабе Земли!»
— Ну хорошо, хорошо! — смиряет его энтузиазм жена. — Слышали про твой рай много раз. На-ка, съешь райское яблочко! — она берет красное яблоко, подносит его к губам Шахова, и тот вгрызается белыми крепкими зубами в плод, жует, воинственно таращит глаза.
Из застольного полемиста, яростного, не жалеющего энергию спорщика Шахов с годами превращался в глубокого, обремененного государственной заботой ученого — по мере того как находили признание его гипотезы. Он выпускал книги, защищал диссертации. Его приглашали на кафедры — с чтением лекций, в исследовательские институты — возглавлять отделы. Он, в юности легкомысленный, готовый эпатировать и фрондировать, все больше втягивался в бремя государственных дел. Облекаясь доверием, концентрировался, как бы сжимался в своем чувстве непомерной ответственности. Становился государственником. Его концепции, лишаясь академического блеска и виртуозности, тяжелели, превращались в корпуса заводов и ГРЭС, в высоковольтные линии, в траншеи нефтепроводов, в насыпи железных дорог. Его взгляды на ресурсы, пространство, на слияние природы и техники становилось инструментом воздействия на огромные регионы, приводили в движение тысячи человеческих судеб. И он, Шахов, постаревший, с тяжелым, изрезанным морщинами лбищем, глава института, принимал у себя академиков, министров, политиков, и Бобров, наблюдая друга, питался его идеями, вдохновлялся его постулатами. Сделал свой фильм о державе. Об огнедышащем, фантастическом древе современной цивилизации, взращиваемом всенародно среди трех океанов. И главным героем фильма был он, его друг, Шахов. Ему посвящен был фильм.
Как всегда перед началом работы, он, режиссер, отправлялся в путь по пространствам, где будут развиваться события. И Шахов, членкор, подарил свой отпуск ему. С походными баулами, налегке устремились за Урал, туда, где на стройках и в целинных степях сбывались прогнозы ученого и его, художника, мысль искала метафору фильма.
Они присутствовали при пуске турбины, врезанной в бетонную громаду станции. Сияющая, из драгоценных сплавов машина, окруженная циферблатами. Шахов морщит лоб, и на лбу, горячем и потном, отражение цветных индикаторов, его мыслей. Взревели котлы. Раскаленный пар ударил в лопатки турбины. Помчался стремительный ротор. И в ночной степи заметались, зажглись огни. Нанесли в пространстве узор. Начертали огромную надпись. Повторили, увеличив в сто крат, рисунок на лбу у Шахова.
Они летят на самолете над пожаром рыжих песков. Самолет полон деревьев, бережно укутанных саженцев. Смочены корни. Перевязаны рогатые кроны. Пахнет клейкая зелень. Розовеют бутоны. Целый сад летит в небесах. И он, Бобров, смотрит на друга, ласкающего хрупкое дерево.
Карьер в угрюмых горах. Взрывники оплетают скалу цветными шнурами. Гудит сирена. Они с Шаховым спускаются в глубокий защитный окоп. Взрыв сотрясает хребет, превращает скалу в пыльное курчавое облако. Идут в оседающем прахе. И там, где чернела скала, сверкает драгоценно руда. Шахов подносит к лицу серебристый осколок, превращая его в высокий блеск самолета.
Была своя боль и драма у этого сильного и яркого человека. Алена, жена, ушла от него, кинула его вместе с его турбинами, рудниками и станциями. И он упал со своей высоты и разбился. Расплющенный в своей воле и вере, он на время отрекся от своих прогнозов и возненавидел людей и мир. И там, где прежде стоял его рай, открылась бездна, куда он кидал своих близких, друзей, сослуживцев, память о жене. Бобров в тот жестокий период поддерживал друга, терпел его удары, отдавал ему в поддержку свою энергию. Был донором, вливал в него свою кровь, принимал взамен его яды. Пока тот не воскрес и не встал.
Они ночевали в палатке у малой степной речушки. Бобров проснулся от солнца. Луч лежал на лице у Шахова, и в этом луче по небритой щетине ползла красная божья коровка. И было в этом усталом постаревшем лице среди тяжелых морщин выражение детской беспомощности, и он, Бобров, смотрел на друга, испытывая такую любовь, желание его защитить, продлить ему силы и жизнь. Продлевал, перенося образ друга в свой будущий фильм.
Все это он сейчас вспоминал, сжимая глаза, выдавливая из-под век едкие слезы, сквозь веки продолжая видеть вороненый отсвет на стволе миномета.
Читать дальше