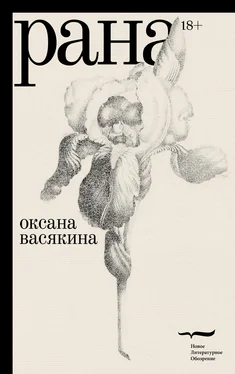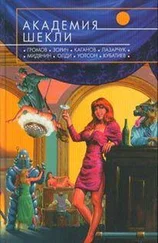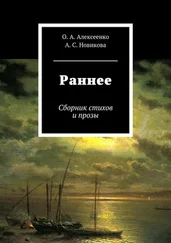Ближе к вечеру началась пурга. Снег летел мокрый и безобразный. Он облепил шапку, пальто, полы штанин намокли. В городе мы купили плетеный ягодный пирог к чаю.
Я с детства ощущала прочную связь между опытом и письмом. Выговорить, осмыслить опыт никогда не значило для меня поделиться им устно. Не важно, кто является адресатом повествования. Это может быть Ж., и перед ней моя боль уменьшается, обесценивается. Это могут быть чужие люди, тогда мой опыт становится славной трагичной игрушечкой для меня. Я им любуюсь чужими глазами. Чтобы опыт получил тело, мне необходимо писать, письмо помогает мне отстранить его по-настоящему. И еще справиться. Я чувствую, как мой рассказ медленно, петляя, движется к концу. Но я чувствую, что что-то здесь не так. Текст еще недостаточен. Есть темные места, которые мне не удалось разглядеть и выписать.
Я описываю письмо через метафору фонарика. Я живу в темноте, в гуще темных неясных вещей, но в кармане у меня всегда есть фонарик, и, освещая им вещи, я делаю их видимыми, значимыми. Они начинают существовать на полных правах с теми вещами, которые до этого были артикулированы и названы другими писателями и писательницами. Фонарик – это маленький прибор. Он тускло светит в темноте, отвоевывая вещество жизни. Это не яркий, бьющий в глаза, холодный луч айфона. Это очень древнее устройство. Свет от него тусклый, но мягкий и живой. Фонарик хорош тем, что мобилен. Вещи, которые я освещаю им, начинают отбрасывать тень и создавать дополнительную темноту. Тогда я кручу фонарь, подлавливая рождающуюся тень, и освещаю места, которые были обречены на смерть в забвении и слепоте.
Ж. несколько раз просила меня написать смешную книгу. Но я все пишу и пишу долгую несмешную книгу.
Я чувствую, что в моей истории не хватает еще одного места, без него история неполная. Думая об этом пространстве, я шарила своим тусклым светляком по миру темных вещей и ничего не могла найти, пока не ощутила запах. О запахе не говорят, что он большой, но я напишу, что это большой запах. Он страшный и вызывает муку. Он похож на смесь запахов тухлой тряпки, отсыревшего дерева и намокшей масляной краски на изношенных половицах. Он похож на брошенную скудную желтоватую еду.
Это запах старого прабабкиного дома. Почувствовав его, я вдруг вижу сумрачный закуток за печкой. Пол его обит жестянкой, это маленькая деревенская кухня. И влага, поднимающаяся из подпола, блестит на досках вокруг жестяного квадрата. Занавеска тусклая, оранжевая, залапанная грязными руками. И злой взгляд прабабки Ольги.
Ее нужно было целовать каждый раз, когда меня маленькой привозили в ее зеленый деревянный дом. Щеки ее были все в розовых пятнах экземы, а кожа на руках шелушилась. Некрасивые мышиные волосы на затылке выглядывали из-под цветастого, в крупных бутонах платка. Глаза у нее были холодные и голубые. Меня подводили к ней поцеловать, и я задерживала дыхание. Маленькой мне казалось, что запах этого дома вредоносен. Казалось, что, если долго дышать этим домом и прабабкой Ольгой, можно самой превратиться в некрасивое влажное существо. Прабабка и правда была злая, она презирала мою мать, недолюбливала свою старшую дочь, мою бабушку Валентину. Об этой ее нелюбви я узнала намного позже, но в детстве я чувствовала только холод.
Когда мне было девять лет, прабабка Ольга умерла, после того как долго пролежала разбитая инсультом. Все тяжелые кожные болезни от нее унаследовал внук Александр, а моей маме достался только псориаз, вскрывшийся после острой ангины. Еще я знала, что прабабка Ольга была труженицей тыла, а в Усть-Илимск она приехала из деревни, которая нежно называется станцией Зима. На станции Зима родился советский поэт Евгений Евтушенко, но в нашей семье соседством не гордились. И я, повзрослевшая, его тоже никогда не любила, меня манила темная сторона советской поэзии. Советская неподцензурная поэзия мне дороже и понятней, чем эстраднический пыл Евтушенко. Когда я спрашивала маму о том, откуда мы, мать пожимала плечами и отстраненно говорила о станции Зима. Бабушку Валентину всю передергивало, когда я задавала этот вопрос ей. Она отмахивалась и говорила, что ей неоткуда знать. Прабабка Ольга была уже мертва.
Чувство обделенности историей – даже не большой, какая уж тут большая история в глухой Сибири, – но малой историей, собственной, меня пугало. Неужели, думала я, мы люди из ниоткуда, из холодной белой пустыни? Если мы из холодной белой пустыни, то в пустыне мы должны были когда-то появиться. Намеренное замалчивание и отстранение бабки и матери меня удивляли. Я и сама начала думать о себе как о чем-то, что появилось здесь, в тайге. Просто вынырнуло в заснеженный лес и начало жить. Сиротствовать, как дворняга.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу