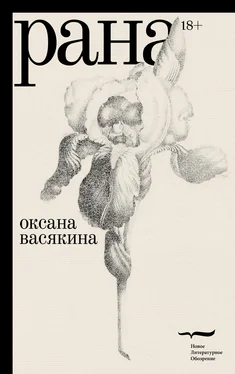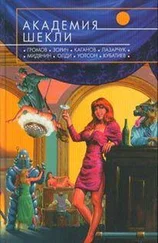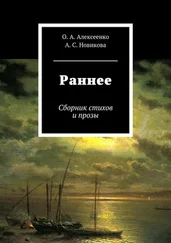В хосписе маму сразу одели в подгузники, которые Андрей купил по наказу медсестры. Она составила список покупок, в нем, кроме подгузников и одноразовых пеленок, были «пилот» на три гнезда, влажные салфетки и еще что-то, чего я уже не могу и вспомнить. Когда я спросила Андрея, зачем им «пилот», тот ответил, что он им нужен для аппарата искусственной вентиляции легких. Странно, подумала я, аппарат у них есть, а «пилота» нет. В хосписе на нее надели подгузник, белую полупрозрачную распашонку, которая не могла прикрыть маминой одногрудой груди, и вставили в нее капельницу с обезболивающим и трубку от ИВЛ.
Мне пришлось использовать свои скромные связи в активистской среде, чтобы положить маму в хоспис: ни лечащий, ни участковый врач, ни фельдшеры скорой помощи не давали направления. Все нужно было делать в ручном режиме из Москвы. Когда я наконец поняла, что маму может принять хоспис, я узнала, что для этого необходима специальная комиссия, которая приехать-то приедет, но увезти ее не сможет, потому что у хосписа нет оборудованного транспорта. Тогда я заказала специальное медицинское такси. Бравые высокие парни приехали, аккуратно положили маму на носилки и спустили с четвертого этажа по узкой вонючей лестнице, чтобы отвезти ее в место, где она умрет в забытьи и без боли.
Я хотела быть всему этому свидетельницей, но уже девятого февраля мне нужно было лететь в Москву, откуда я дистанционно решала все вопросы. У меня были билеты на девятнадцатое февраля в Волжский, я собиралась навестить маму в хосписе, но утром восемнадцатого февраля она умерла, и мне пришлось менять билеты и лететь в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое, чтобы заниматься прощанием и кремацией.
Теперь я постоянно думаю об этих последних днях ее жизни. Правильным ли было решение определить маму в хоспис? Я все время думаю о том, в какой крепкой связке мама была с пространством дома и как неправильно было решать за нее, лишая возможности быть дома последние несколько дней. Что она чувствовала там, в хосписе, когда открывала глаза и приходила в сознание? И приходила ли она в сознание вообще?
Андрей ездил к ней за два дня до ее смерти и сказал, что мама не слышала того, что он говорил ей. Андрей пытался поить ее из ложечки водой, но она не реагировала ни на холодную сталь ложки, ни на его голос. Он сказал, что на губах ее была кровь от царапины: похоже, когда в ее легкие проталкивали трубки ИВЛ, внутри у нее что-то поцарапали и пошла кровь. Андрей плакал от безысходности и бессилия в телефонную трубку. А я молчала, сжав челюсти. На тумбочке при ее кровати стояла банка, в нее медсестры поставили цветы, которые я прислала в хоспис. Наверное, цветы пахли. И их присутствие меняло пространство. Но может ли человек без сознания, накачанный обезболивающим, не евший несколько недель, почувствовать близость твердоватых стрелок хризантем? Что он вообще может почувствовать? Чувствовала ли мама злость и обиду на меня за то, что я так распорядилась ее умиранием?
Ж. злилась на меня за этот мой поступок и предоставленный матери выбор быть кремированной после смерти. Она укоряла меня в нелюбви к матери, хуже того – в ненависти к ней и в одержимости сделать с ее телом что-то такое, что полностью сотрет мать с лица земли.
Я не скрывала своего холодного отношения к матери. Но и жестокой я не была. Я делала все так, как должна была делать. Я обеспечила ей спокойное, безболезненное умирание. Я выполняла нашу с ней договоренность – везла ее домой, в нашу Сибирь, чтобы похоронить в земле, в которой лежат тела ее матери, бабки, сестры, друзей и всех других близких ей людей. Ж. обвиняла меня в том, что я хочу увезти мать подальше от любимого человека. Я и не скрывала того, что Волжский – страшный серый город, в котором мне не хотелось бы хоронить мать.
Мы долго спорили в личных сообщениях. Потом она замолчала. Наверное, очень сильно обиделась на меня и ужасно разочаровалась во мне, потому что, по ее мнению, я поступала бесчеловечно.
Но потом, в Иркутске, мы очень долго говорили ночью. Я пыталась объяснить ей свои резоны. Она долго осуждала меня за мои стихи и какую-то корявую, неудобную, тяжелую память. Я сумела объяснить Ж. то, как и зачем я работаю с текстом. Пожалуй, это ее понимание подарило мне самое большое облегчение в жизни.
Ж. была для меня значимой взрослой. Мать каждые каникулы отправляла меня в Иркутск, где у Ж. была своя небольшая парусная школа для детей. Она жила совсем скромно. Сначала снимала часть деревянного барака начала ХХ века в самом центре Иркутска, причем в другой половине жила семья дворника. Потом поселилась в комнатушке общежития коридорного типа, в котором в общих пространствах ничего нельзя было ронять на пол, оно мгновенно «сгорало» и летело в мусорное ведро. Там было настолько грязно и неблагополучно, что разуваться нужно было в коридоре, а на тумбочке лежала деревянная блок-флейта, которой Ж. стучала в стену, когда бушевали соседи. Ж. жила в этих маленьких пространствах со своей собакой Джойкой. Джойка была тигровая боксерша, добродушная сладкоежка и совсем не страшная. Джойка всю жизнь прожила среди детей и подростков, она была заласканная и нежная собака. Посторонние ее, конечно же, боялись. Это нас часто спасало. Думая о своем детстве в парусной школе, я изумляюсь щедрости и непосредственности Ж. Я приезжала в Иркутск, и она селила меня в своих маленьких квартирах и комнатах. Мы жили по три месяца вместе, она кормила меня и покупала одежду, иногда мне доставалось что-то с ее плеча или вещи ее подруг. У меня были очень крутые солнечные очки скалолаза, которые я не снимала даже в пасмурную погоду, и выгоревшая оранжевая толстовка, которую я носила до дыр, пока рукава не стали мне длиной в три четверти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу