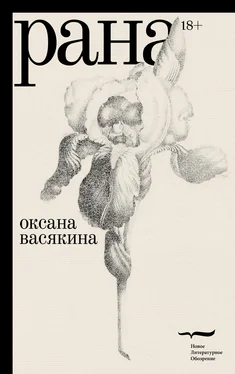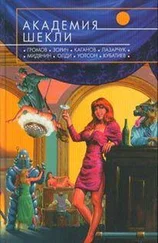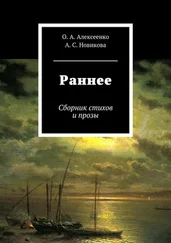Но в ней стоял все тот же старый раскладной диван. На таком диване в фотоперформансе «Двойная игра» Анна Альчук и ее партнер по проекту лежат в позах томных дев, читающих бульварный роман. От этого дивана болит спина, и я спала на нем, когда приезжала в нашу усть-илимскую квартиру.
Мамина квартира в Волжском так же чахла по мере того, как мама ослабевала. Я видела, что мама уже не может так тщательно следить за ней. Я видела желтоватый налет на моющихся обоях в кухне и столпотворение открыток, заправленных за маленький янтарный пейзажик в деревянной раме. Мама сохраняла прагматическое отношение к пространству, но, слабея, она становилась сентиментальной. На стене висели акварельный рисунок маминой подруги юности, открытка от меня и масса каких-то картинок, календариков, валентинок, которые я бы сочла за мусор.
Умирая, женщина захлопывает пространство, омертвляет его. Все вокруг становится мертвым, маленькая квартирка начинает пахнуть чем-то кисловатым.
Я приезжала туда спустя семь месяцев после маминой смерти и не узнала квартиры. Я попросила у Андрея разрешения забрать из шкафа хлопковые полосатые кухонные полотенца, которые шила для мамы бабушка. Полотенца были практически новыми. Бабушка шила их из цельного полотна, и по краям я видела аккуратную машинную строчку. У нее была ножная швейная машинка, на которой шили мои новогодние наряды, накидки на кресла, кухонные полотенца, подрубали штаны и юбки, купленные на рынке. Мама привезла эти полотенца из Сибири, как и всю остальную домашнюю утварь, начиная с янтарного пейзажика и заканчивая стиральной машинкой, купленной ею в кредит в начале нулевых. Тогда в Усть-Илимске только появилось «Эльдорадо», и она купила стиральную машину и cd-плеер для меня.
Женщина – это и есть пространство.
Еще до маминой смерти я озадачилась покупкой черного хлопкового платья для кремации. На сайтах похоронных агентств я одно за другим рассматривала старушечьи одеяния, безвкусные, ажурные, цвета сирени и полуспелых персиков. Ни одно из платьев не подходило, ведь мама просила похоронить ее в черном.
Цветастые платья-халаты, которые сначала носила моя прабабка Ольга, а потом, ближе к пятидесяти, начала носить моя бабка Валентина, всегда вызывали отвращение у матери. Я понимала ее чувство. Цветастым казалось то, что женщины выбирали себе красно-синие аляповатые халаты на поясках и называли их платьями. Покупали их на выход и для дома. Те, что были на выход, – подороже и цветастей, для дома выбирали более мелкий узор и материал подешевле. Когда ткань изнашивалась, ее резали на тряпочки для домашних дел, а пуговицы состригали и клали в жестяные шкатулки от конфет. После на уроках труда мне пригождались эти разноцветные пуговицы, они были синие, перламутровые и черные, всегда одинакового размера, немного стертые по краям, как старые пластиковые зубы.
Из лекции антрополога Светланы Адоньевой я узнала, что тяга к цветастым халатам – отголоски деревенской жизни и стиля одежды. Женщины из деревни таким образом находили аналоги своим деревенским нарядам в новых условиях города. В отличие от нас с мамой, всю жизнь живших в городе, им они не казались дикими. Но ближе к сорока мама стала меняться, и я это заметила не сразу, только когда разбирала ее вещи после смерти. Я выпотрошила весь шкаф и нашла среди вещей футболки, по расцветке отдаленно напоминающие бабушкины халаты. Мамины платки, которыми она во время химиотерапии покрывала голову, были в голубой цветочек. Странно, подумала я тогда, почему моя мама, в молодости признававшая только маленькие черные платья и шифоновые брюки болотного цвета в сочетании с черными блузами, вдруг обратилась к голубым незабудкам и фиолетовым полосам? Неужели и я к сорока заброшу весь свой нормкор, джинсы Levi’s, базовые футболки и заменю их на футболки с цветастыми паттернами и платья-халаты на пояске?
Я знаю, что старые люди традиционно собирают себе смертный узелок. Обычно для этого выделяется отдельное место в шифоньере, куда кладут деньги на похороны и то, что необходимо надеть на будущую покойницу. Бабушка Анна хранила обрезки старых обоев: она настаивала на том, чтобы ее гроб обклеили кухонными обоями, и она в нем была бы как дома. Мама не могла собрать для себя похоронного узелка. Она знала, что смерть неизбежна. Она говорила: «Я знаю свою болячку», но жила так, как будто смерть никогда не настанет. Она жила так, как если бы ее жизнь была вечной, и собирать узелок пришлось мне. За две недели до ее смерти я уже знала, что нужного платья в похоронном агентстве мне не найти, и попросила свою приятельницу – швею Женю сшить платье для мамы. Черное, по колено, рост 170, размер 46. Женя привезла платье через несколько дней. К нему она сшила черную простую косынку. Женя сказала, что в женских наборах для похорон всегда есть косынка. Я развернула холщовый мешок с маминым платьем: оно было черное, простое, с глубокой прорезью на спине, чтобы его было просто надевать на негнущееся тело. По виду оно напоминало скромное кимоно, и я даже захотела его примерить. Но я знала, что так делать нельзя: примерять платье покойницы – плохая примета. Пусть даже будущей покойницы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу