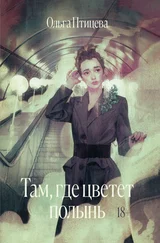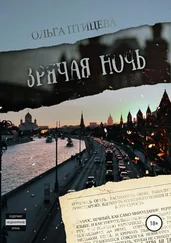— Не надо, — попросил Тим. — Ты же заразу какую-нибудь подцепишь.
Шифман опустил руку. Из-под пальто у него виднелись расстегнутая рубашка и мятая футболка в синий ромбик. От холеного писателя на снимках с презентации осталась только морщина между бровями. Тиму захотелось разгладить ее, но он не решился.
— Ладно, — наконец сказал Шифман. — Значит, надо писать дальше, так?
— Надо. Это даже не глава. Так. Начало. — Тим прикинул. — Если будешь писать каждый день, то можно успеть к сроку.
Шифман кивнул. Потом еще раз, уже чему-то своему.
— Да, я успею. Буду писать. Получается же. Ведь получается?
Глянул на Тима. Зрачки с трудом умещались в радужке. Над верхней губой собралась испарина.
— Миш, — позвал его Тим. — Ты в норме?
Шифман вздрогнул, подался вперед, обхватил Тима за шею и потянул к себе.
Глава одиннадцатая. Свершившийся трепет
Я
Я иду и знаю: все уже случилось. Свершилось, как любила говаривать моя незабвенная матушка. Дорогуша, свершилось важное, мне дали роль с текстом! Михаил, пойди сюда, свершилось непоправимое, они снова просрали мою фактуру. Миша, все опять свершилось так, как я и говорила, спектакль провален, денег нет, эти сволочи бегут с тонущего корабля, но я — не крыса, я — прима, я не брошу этот вшивый театр, пока там есть сцена, слышишь меня, Миша, твоя мать — уже свершившаяся величина, ей не страшны голод и мор! Да, матушке ничего не было страшно. На бутылочку портвейна с конфеткой денег хватало всегда, а что сынок — кожа да кости, так-то гены, вы посмотрите, какие у него ключицы, абсолютно мои! Я иду и говорю с Павлинской, а Павлинская мне отвечает. Не новым своим, дребезжащим, измученным голоском, а тем, что заставлял топорщиться волосы на руках то ли от ужаса, то ли от восхищения. Трепет. Да, отличное слово. Ей подходит. Свершившийся трепет имени Павлинской.
Я смеюсь и сплевываю смех на землю. Мужик в кислотном дутике шарахается в сторону, когда меня заносит, и я перебираю непослушными ногами, чтобы не врезаться в него, обхожу по дуге, прислоняюсь к шершавости кирпича каким-то чудом попавшейся под руку стены. В стене что-то пульсирует, я точно чувствую это и наконец понимаю, что болен. У меня жар.
— Ты загонишь себя, — бормочет Катюша, пока я только иду к ней, а она не знает, что все свершилось. — Уже загнал. Я говорила…
— Говорила-говорила, — поддакиваю я, только бы не расстроить ее, не обозлить раньше времени.
— Зачем ты это начал? Зачем тебе этот текст? Зачем тебе это все? Тебе мало меня?
Я отрываюсь от стены, прощаюсь с ее надежной шершавостью, с кирпичной оранжевостью, с прохладцей, чуть остудившей меня, совсем уж вскипевшего. Мимо идут. Их много, но все они — одно. Пестрая масса движется по законам светофоров, знаков и сигналов. Люди-люди-люди. Пытаюсь вычленить хоть одно лицо из сонма лиц, но куда там. Глаза слезятся, смаргиваю. Шатаюсь, кажется. Я болен, я весь в боли. Как мне страшно, кто бы знал, какой это страх.
— Вам нехорошо? — Из толпы ко мне тянется рука. Пальцы кривые и толстые.
Я шарахаюсь в сторону, пячусь. Киваю быстро, да нет, все хорошо, спасибо, до скорых встреч.
— Тебе вечно нужно еще что-то, — шипит Катюша. — Что? Кто? Вот они? Они?
Тысячеликий урод катится по нашей улице от нашей станции до нашего дома. Среди мельтешения его дряблых ног, острых локтей, красных глаз и мясистых мочек я выхватываю то опухшего от собачьей жизни бомжа, то измученную младенцем женщину, то старуху в вонючих обносках, то бандерлогов Страхова в неизменной джинсе и скандинавских свитерах, откуда только они взялись, так не ходит уже никто.
— Нет, не они, — отвечаю я, и Катюша хохочет, захлебывается смехом, а я сплевываю его на землю — слюна мутная, будто манная каша на воде.
Какая-то старуха оборачивается на меня через костлявое плечо, смотрит испуганно, подтягивает тряпичную авоську поближе. Катюша всхлипывает и перестает смеяться. И я слышу, как оглушительно гудит мне машина с переплетением кружков на решетке. «Ауди», — вспыхивает в памяти. Сколько ерунды там копится. Сколько пустой ненужности. Я машу рукой, мол, вижу, что стою на проезжей части, вижу, не гуди, и шагаю дальше, сворачиваю с дороги, прячусь от многоликого урода во дворах. Спиной чувствую, как старуха провожает меня взглядом. В кармане звякает мелочь.
— Да не оскудеет рука дающего, — назидательно учит меня Павлинская, повязывая голову шелковым платком, а руки подрагивают от густого похмелья и никогда не подают, потому скудеют, скудеют до дыр.
Читать дальше




![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)