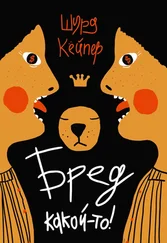– Все окей, – сказала она и села на свой спальник, – но пока останемся здесь. А ну-ка рассказывайте, как такое могло произойти. Отпусти мальчишек.
Донни выполнил ее приказание. Близнецы не заверещали.
– Давай-ка ты расскажи, – обратилась Джеки к Бейтелу, – тебе я верю.
То, что говорил Бейтел, было так трогательно – мне даже стало неловко. Он рассказал, как мы мыли посуду, и про Дутинхем, и про Андорру. Тут Донни сказал, что он ни при чем, но Бейтел готов был продолжать, и Джеки велела ему рассказывать дальше – ведь сейчас она была главной. И Бейтел поведал, что ему хотелось, чтобы я осталась с ним, но у меня были другие дела, и, когда я ушла из кемпинга, он побежал за мной, потому что должен был рассказать мне еще одну вещь.
– Какую? – спросил Джеки.
– Да, какую? – спросил Донни.
– Заткнись, придурок, – скомандовала Джеки.
– Это секрет, – сказал Бейтел, – я расскажу это только Салли Мо и только когда мы с ней будем одни. Только Салли Мо хорошая.
Честное слово. Так прямо и сказал. Я посмотрела на Дилана. Он сидел, уставившись в огонь.
– Как тебя зовут? – спросила Джеки.
– Бейтел.
– Пф-ф-ф, я-то думала, что только мои родители чокнутые [9] По-нидерландски слово beitel значит «стамеска» (столярный инструмент).
, – сказала Джеки и указала на братьев. – Их зовут Бакс и Никель. – Она указала на меня. – Как пишется Салли Мо?
Я произнесла свое имя по буквам.
– И Дилан никогда тебе не говорил, что мы здесь прячемся?
– Нет, – сказала я, – честно, недавно я дала себе слово никогда не врать.
– Соврала она, – добавил Донни.
Джеки посмотрела на него злобно. А при свече злобный взгляд выглядит еще более злобным.
– Дилан ничего мне не говорил, но я все слышала, что ты ему рассказывала, я знаю твою историю.
– Какую историю? – спросил Донни.
Джеки сунула руку под свой спальник и вытащила ружье.
– О том, что я из-под земли тебя достану, если ты хоть кому-то сообщишь, что мы здесь прячемся, – сказала Джеки, – вот какую историю. – И прицелилась в Донни. – Поклянись, что будешь держать язык за зубами.
Донни поднял вверх сомкнутые указательный и средний палец.
– Только если ты расскажешь мне свою историю, – сказал он.
– Ружье заряжено, – предупредила Джеки.
– Это правда, – подтвердила я.
– Клянусь, – произнес Донни.
Затем Джеки направила ружье на меня.
– Я тоже, – сказала я.
После этого она сделала очень хорошую вещь: не стала целиться в Бейтела. Он сидел, обняв собаку, и казалось, что это одно существо, получеловек-полусобака, этакий мифический зверь. С двумя головами, наполненными одинаковыми мыслями.
– Ладно, – сказала Джеки, – может быть, вы меня поймете, если я расскажу мою историю.
Я ее историю знала. И Дилан тоже. Он все еще сидел, уставившись на пламя свечи, и мне очень хотелось, чтобы мы с ним тоже были одним мифическим зверем и чтобы мысли наши тоже были одинаковыми. Но, боюсь, ничего такого мне не светило.
– Слушай, Дилан, – подала я голос.
Он посмотрел на меня и спросил:
– Ты за мной следила – и что ты видела? Салли Мо, зачем ты это делала?
Два вопроса в одном. Так что ответ будет только один.
– Две недели – это так мало, Дилан. Всего две недели в году. И в эти две недели я хочу видеть тебя как можно больше.
– Правда?
– Да, именно так, Дилан. Я влюблена в тебя с той минуты, как научилась смотреть.
– Это ж сколько лет, Салли Мо!
– Хорошо бы к ним добавить еще годиков восемьдесят, Дилан!
– И что я должен сейчас сделать?
– Не знаю, мне же не заглянуть к тебе в голову, – сказала я.
Он улыбнулся.
– Буду сидеть, раздуваясь от гордости.
– И? – спросила я.
– И все.
Могло быть и хуже. А могло бы и лучше! Но выдумывать для Дилана реакцию поинтереснее я не решаюсь. В смысле, весь этот наш разговор – выдумка. Если не считать того, что мысленно я его проговаривала на самом деле. Слово в слово. Но вслух не произнесла. Дилан просто сидел и смотрел, пламя свечи отражалось у него в зрачках, так что они казались отлитыми из чистого золота. Возможно, он решил играть со мной в молчанку. И уже начал. И в ближайшие восемьдесят лет не перестанет.
Среди нацарапанных на стенах непристойностей я вдруг заметила шесть слов, написанных недавно: БАБЛО НИКОГО НЕ СПАСЛО, и пониже: И БОГ НИКОМУ НЕ ПОМОГ. Почерк аккуратный. Наверняка это Джеки постаралась. Кто еще станет такое писать про бабло. Но при чем здесь Бог, я понять не могла.
Как-то раз дедушка Давид сказал мне: «Салли Мо, не переживай за людей и за мир. Все будет хорошо. Человечество в целом развивается точно так же, как один человек, один индивид. Мы кутались в звериные шкуры точно так же, как младенец лежит в пеленках. Мы вели войны так же, как мальчишка дерется во дворе школы. Мы устроили революцию, как подросток в переходном возрасте. Не знаю, сколько сейчас нашему миру лет – думаю, лет шестнадцать-семнадцать. Но пора бы ему влюбиться и думать только о танцах и сексе». А я спросила: «Если это так, то можно сказать, что Бог был когда-то для человечества выдуманным дружком?» Дедушка Давид глубоко задумался. Потом налил себе еще рюмку и долго сидел, кивая. Раньше дедушка Давид был красавцем. Это видно по автопортрету, который он написал в шестнадцать лет. Автопортрет висит в каком-то музее, но я видела репродукцию в книге. Прекрасно понимаю, почему бабушка Йорина, как только его увидела, сразу впорхнула к нему в объятия. А когда ее унесло ветром от него прочь – в смысле, когда она умерла, – мир совершенно перестал его интересовать. Дедушка не покидал дома, и к нему, кроме меня, никто больше не приходил. Когда я выдала мысль о воображаемом друге, он посмотрел на меня и сказал: «Салли Мо, если у человека есть кто-то, с кем он может вести такие разговоры, то никто-никто больше ему не нужен. Но рано или поздно человечество станет таким же старым, как я. И тогда никто уже не будет расстраиваться от того, что всей этой лавочке придет конец». Сказал и очень скоро вдруг влюбился. Не в тот же день, но, наверное, в следующий. В мефрау, которая влюбилась в его картину, на которой был изображен тот самый кот. Но это совсем другая история. Кстати, в совсем даже не красивую мефрау. Бабушка Йорина была намного красивее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Шурд Кёйпер Бред какой-то! [litres] обложка книги](/books/432172/shurd-kejper-bred-kakoj-to-litres-cover.webp)




![Александр Васильев - Сплин. Весь этот бред [litres]](/books/400617/aleksandr-vasilev-splin-ves-etot-bred-litres-thumb.webp)