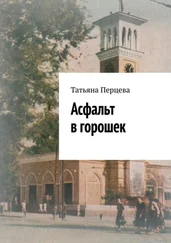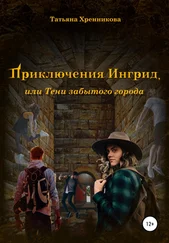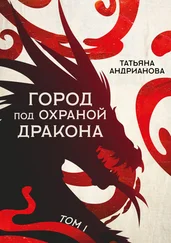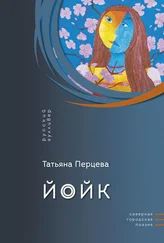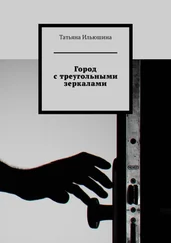Балеты — пожалуйста: «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Жизель», «Кармен-сюита»…
Интересно, что когда-то были и биографические фильмы. О поэтах. Композиторах.
И что всего «воспитательнее» — были широко распространены фильмы-спектакли. Преимущественно Малого и МХАТа.
Вот где классику ставили. Особенно Островского. Малый неотделим от Островского. Жаль, что теперь он самый невезучий писатель. Никого не коверкают так, как несчастного Александра Николаевича.
Вспоминать можно хоть до завтра. Всего не вспомнишь. У нас ставились и старые водевили, и не слишком известные романы, и на все находились деньги. И везде играли известные актеры. Счастлива знать, что Малый до сих пор не поддался новациям. Очевидно, потому, что есть Юрий Соломин, жить ему до ста пятидесяти.
К сожалению, на мой взгляд, современные экранизации классики и биографические фильмы отличает прискорбное равнодушие режиссеров, операторов, а главное, актеров к происходящему на съемках. Впечатление такое, что никого конечный результат не интересует. Главное — добить работу и получить деньги. Если фильм исторический и биографический — историю чудовищно искажают (исключение «Годунов», но вторая часть значительно слабее первой). Впечатление такое, что всем все по фиг. В глазах актеров мелькают долларовые знаки. Как и в глазах режиссеров. Равнодушно произносят слова роли. Механически двигаются. Какой там Станиславский, какая система, какое проникновение в образ? И это по всему миру. Гениальных актеров все меньше. Гениальных режиссеров, кажется, почти нет.
Я, в частности, о фильме «Зорге».
Это когда снимают фильм о великом человеке, не понимая и, главное, не желая понимать его величия. В результате получается то, что получается. Как, например, история с оскорблением памяти Карбышева. Они не знали, кто такой Карбышев. И страшнее всего, что действительно не знали.
А в этом фильме никто не собирался возвеличить роль Зорге. Растолковать, в чем заключается величие человека, в одиночку выигравшего Вторую мировую. Сталин похож на шута, Зорге — полуробот, в глазах которого ледяное безразличие. Мне очень понравился комментарий какой-то дамы, описавшей, как героиня Юлии Ауг, разжиревшая на лагерной баланде до ста килограммов, бросается на шею мужу (Андрей Леонов), едва его при этом не сбив.
Для этих людей нет ничего святого. Кроме денег, разумеется. А тогда, экранизируя повесть Васильева «А зори здесь тихие», создатели, очевидно, молились на своих героев. Оттого и фильм получился такой, что опять же хочется поклониться в пояс.
У нас принято ругать советскую идеологию. А советская идеология воспитывала прежде всего патриотизм. Нам не давали забывать наших героев. Наших великих людей. Спросите у старых, кто такие Зорге и Карбышев. И спросите у молодых…
Вы что, искренне считаете, что, скажем, в США нет идеологии и никто не воспитывает патриотизм? Ошибаетесь.
Мы прилетели в Нью-Йорк в конце мая. Двадцать седьмое мая — день поминовения погибших во всех войнах. Очень широко отмечаемый праздник. И каждый мог объяснить, что празднует.
Мы жили на 42-й улице. Там недалеко музей военных кораблей, где полно детишек. Им объясняют, что эти корабли участвовали во Второй мировой, как все было, сколько погибших… Да и в Бэттери-парке, откуда уходят кораблики к статуе Свободы, множество школьных экскурсий. Детям рассказывают об истории их страны, и, на мой взгляд, это прекрасно!
Что можно узнать о Второй мировой в теперешней школе, если на все ее изучение отведено несколько жалких часов? Какие там герои? Какое патриотическое воспитание?
Если воспитание осуществляется такими фильмами и такими методами, результаты можно предсказать заранее. Они будут плачевными. Они уже есть.
Детей нужно воспитывать. Правда, какая банальность?
Все-таки нужно. Необходимо.
Иногда воспоминания нахлынут при виде абсолютно случайного предмета. Снимок отличниц младших классов… шкатулка из открыток…
Я стою в последнем ряду: улыбка, белый бантик, круглое лицо, почти неузнаваемая: к первому классу я ужасно подурнела. Но выгляжу, как все: коричневая форма, черный фартук, белый воротничок.
Тогда так одевались все школьницы. Почти обязательные косы, хотя против стрижки не возражали: моя подруга Вика всегда носила короткое каре с роскошной челкой.
Остальные — с косичками. Атласные ленты, вплетенные в косы (капроновых тогда не было), ужасно мялись, гладить было лень, и я прибегала ко всем известному способу: намочить ленты и туго намотать на никелированную спинку кровати. Они высыхают, разматываешь — почти глаженые. Тот же способ был очень полезен в лагере или санатории. У большинства учениц манжеты, у меня нет. И никогда не было. Мама считала это излишеством.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
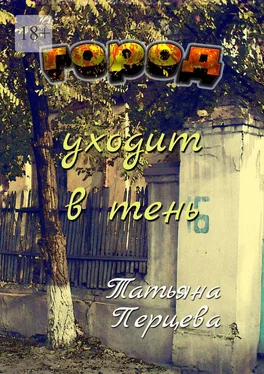
![Татьяна Гуркало - Город для хранящего [СИ]](/books/30532/tatyana-gurkalo-gorod-dlya-hranyachego-si-thumb.webp)

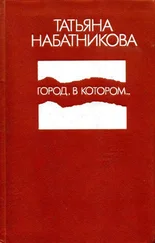
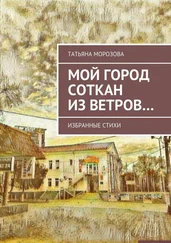
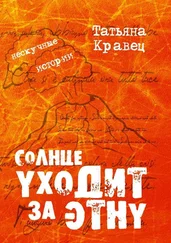
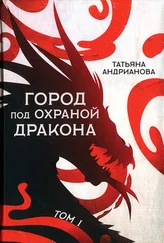
![Татьяна Русакова - Город, которого нет [Фантастическая повесть]](/books/410082/tatyana-rusakova-gorod-kotorogo-net-fantastichesk-thumb.webp)